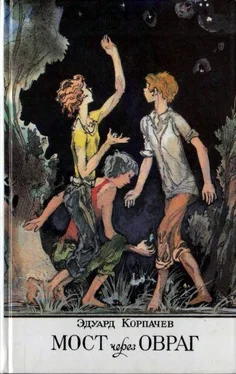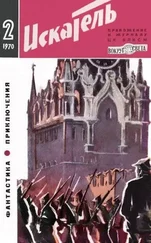— Всё из-за меня, — вздохнула она. — Но я не очень. И вы тоже не очень…
— Мы не очень, — довольный, наверное, тем, что не приходится долго успокаивать её, сказал Саша и попятился. — Мы не очень.
Она закрыла дверь, послушала, как топочут мальчишки, сходя по лестнице, и вернулась в комнату, опустилась на пол подле батареи, тёплой и как будто гудящей — казалось, и не вода там была, а воздух, ему в батареях стало нестерпимо жарко, и он пошёл шататься по трубам, шурша о металлические чешуйки, заусеницы.
Какие бесконечные каникулы, какие долгие вечера, какое утомительное хоккейное первенство!
И тут поняла Инга, что ей не усидеть дома, что дома ей жарко и душно.
Она оделась бесшумно, и выскользнула за дверь бесшумно, и по лестнице сошла бесшумно — беглый человек Лжеингин. А через минуту троллейбус уже вёз её по знакомому маршруту.
Она ехала теперь в малолюдном троллейбусе и ощущала, как на остановках в распахнутые дверцы троллейбуса втекает январская свежесть, напоминающая ей о катке, о ледовом поле, обо всём, что там произошло. И она опять словно бы чувствовала, как тяжелеет в руках клюшка, принимая шайбу, и как надо всю скорость, весь разбег вложить в быстрый, почти незримый бросок по низким воротцам. И потому так влекло её туда, на стекловидное поле, на это бесславное поле…
На катке уже никого не было, раздевалки были пусты и тихи, всё кругом казалось странным, похожим на покинутый экспедицией арктический городок. Только где-то переговаривались рабочие — наверное, они готовили шланги, чтобы снова залить каток.
Инга спрыгнула на лёд, осторожно побрела, побрела. Поле было исчёркано коньками, всё в бугорках-наметах желтоватой снежной пыли. А в центре во льду зияла глубокая расселина. Свет фонарей попадал в расселину, отражался, бил из неё самоцветной струёй. Инга ощутила, как холодит бесплотная сверкающая струя щёку.
А когда она подняла глаза, то вдруг увидела вблизи на трибуне тёмное пятно. Сначала подумала, что это от света: всегда появляется в глазах пятно, когда смотришь на нестерпимо яркое.
Потом узнала, что это человек.
Недвижные, опущенные книзу плечи, и светлый берет, и чёрные перчатки, лоснящиеся под светом, и вся фигура так приковывали внимание, что становилось страшно. Инга медленно двинулась к человеку.
Под ноги попадали ледяшки, хрустели, звенели под её ногами, и вспоминался Инге музыкальный бой остеклённых часов на почтамте. Может быть, и теперь часы отмечали время, отмечали с глубинным таинственным бульканьем, отмечали не только в Минске, а в Праге, Токио и Оттаве — всюду.
Как объяснить всё это: ожидание счастья, первую беду? Как объяснить не матери, а себе, что она идёт по льду катка, в январе, поздним вечером, идёт робкая и тихая, совсем не королева, идёт к Капитану — человеку, который почему-то стережёт покинутый арктический городок?
Как объяснить всё это?
1
Снова пробежала, шурша в поросли цикория, немецкая овчарка и глянула в погреб сквозь щелястый дощатый наклонный люк маленькими, как лесные орехи, шоколадными злыми глазками, — глянула пустовато, как глядят в ничто, и пропала наверху бесследно, лишь закачался с жёстким шорохом цикорий, раскидывая над собой неслышные взрывы пыли и опять принимая пыль на свои нестерпимо синие, с раздельными, стрекозьими лепестками цветы.
Овчарка была злая и добрая, чужая и своя, потому что не могла она не разглядеть, когда обращала узкую морду к погребу, там, в потайных сумерках погреба, за веретёнами, напуганное до озноба, не дышащее, но живое семейство: её, беженку из Барановичей, и детей — шестилетнюю девочку, и старшего мальчика, которому было четыре с половиной года, и среднего мальчика, которому было три года, и младшего мальчика, который родился за неделю до этого страшного нашествия.
Женщине казалось уже, что овчарки она боится меньше, чем людей в зелёно-серых мундирах, но каждый раз, когда жестяно шелестел цикорий и возникала собака со злобным взглядом, женщина ладонью прижимала млечный рот младенца — даже если младенец не кричал, потому что в погребе становилось уже сумрачно и не всегда можно было угадать, расколется ли мгновенно гримаскою личико грудного. Оно сначала как бы покрывалось трещинами, а уж потом грудной заходился плачем, и остальные дети вздрагивали, девочка прикусывала губу и гневно смотрела на грудного, а старший мальчик подпирал ладонями щёки и сидел понурясь, как старичок. Больше всего опасалась беженка, что дети вдруг возненавидят грудного, а ей надо сохранить и защитить всех четверых, и у неё самой всё кричало, кричало внутри, когда ощущала она, как вспухает вдруг и студенисто дрожит под ладонью личико грудного.
Читать дальше