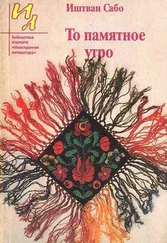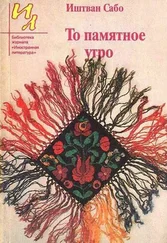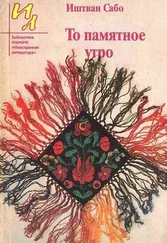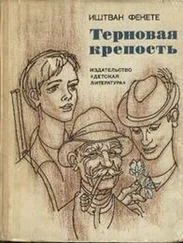— Вы уж тогда ей скажите, тетушка Кати.
Утро выдалось погожее, ясное, осенний воздух был дивно прозрачен и открывал взору дальние дали; в такие моменты кажется, что крикни — и тебя услышат в соседней деревне. Да только к чему кричать, если сказать нечего и жаль нарушать тишину в этом опустелом краю, где слышится шелест листьев, опадающих с виноградных лоз.
Лишь сорока трещит на ореховом дереве у давильни дядюшки Куруглы, извещая округу о приближении трех женщин, но этот сухой треск является неотделимой частью утра, обсыхающего на солнышке после ночной, влажной прохлады, так что никто на него и внимания не обращает.
Даже женщины, и те не разговаривают между собой, — а уж это ли не редкость! Тетушка Кати едва поспевает за Маришкой, которой не терпится приняться за дело. Бёшке — новичок в компании, ей не пристало первой заводить разговор. А Маришка углубилась в собственные мысли…
Маленькая давильня с подозрением взирает на непрошеных гостей. Сорока перепорхнула на соседний орех и смолкла. Она внимательно наблюдает, однако не улетает прочь, зная, что человека — если тот в юбке — не следует бояться.
Сороку не смущают и громкие звуки: на каменный стол с резким стуком опускается жестяное ведро и другая хозяйственная утварь, и сердито скрипит ключ: отчищенный наждаком, он чувствует себя словно обиженным, и в чужих, неопытных руках ему только с третьего раза удается ухватить язычок замка.
Маришка настежь распахнула обе дверные створки, и восходящее солнце с непристойным бесстыдством воззрилось на разверзшееся перед ним во всей наготе нутро дома.
Маришка стояла у порога, а шаловливые солнечные лучи продолжали безжалостно раздевать облупившиеся стены, закопченный котел, старые бочки, большую сливную воронку, бадейку, обшарпанные метлы, грабли, топорик — неброские инструменты неброской старости, которым делалось не по себе от столь бесцеремонного любопытства, и они выказывали себя старее, чем были на самом деле.
Маришка с отвращением огляделась по сторонам и, брезгливо зажав нос, повернула прочь от подвала.
— Давайте пока выложим все, что принесли, а подвал тем временем проветрится… От этой вонищи задохнуться можно…
— Подвальный дух, какому же еще здесь быть, — весело пояснила тетушка Кати. — Мужчинам по душе…
Маришка ничего не ответила на это, лишь с раздраженной неуступчивостью принялась выкладывать из ведра принесенные с собой мыльный камень, стиральный порошок, мыло, щетки… А ведь тетушка Кати была права, хотя свою реплику она бросила только потому, что подсознательно чувствовала: надо сильнее настропалить Маришку против ни в чем не повинного подвала, который не хотел, да и не мог быть иным.
Права была старуха и в том, что мужчинам запах винного погреба по душе…
По душе, да еще как! Хотя что тут можно любить — объяснить очень трудно, да не каждому и объяснишь…
Известно, что: выпивку! — сказала бы Маришка с непререкаемой убежденностью и оказалась бы неправа. Ведь сколько всего таит в себе такой невзрачный, заброшенный подвал: тут и полное раздолье подземному сумраку и теням, и свободное течение времени, слившегося воедино с ароматами, и чуть терпкий запах благородной сырости, и особый приподнятый смысл спокойных, негромких речей, и торжественная значимость жестов, и восхваление простой, будничной пищи, и неторопливый ход мыслей, в которых нет места гневу, горестям и печали… И наконец — в самую последнюю очередь! — ласкает слух и журчание вина, льющегося в стаканы. Ведь вслед за этими звуками вспыхивает огненный глазок единственной свечи в подвале, и свет ее, колышась из стороны в сторону, приветствует человеческие тени, возникшие благодаря ему, а где эти тени были без него и существовали ли вообще неизвестно…
Ну как передать всю эту полноту ощущений, как объяснить ее непосвященному! Возможно нечто похожее чувствует и Цин-Ни, который считает подвал своим домом и в какой-то мере своей собственностью и не нарадуется восхитительным мышиным хоромам, надежно сокрытым от всего дурного, от крысы, ласки, сарыча, пустельги, змеи… И даже самый опасный враг — человек — и тот стал другом, что равнозначно чуду и тоже необъяснимо.
Цин-Ни не подозревает, что необъяснимо и его пристрастие к вину, каковое не водится ни за одной другой мышью. Но мы-то знаем, что его вынудила к тому потребность в чистоте. Ведь для всего мышиного племени это наипервейшая потребность в жизни, и Цин-Ни слизал бы со шкурки вино, даже будь оно ядом. Впрочем, мышей именно так и травят; засовывают в отверстие мышиной норки соломину, вымазанную фосфорным раствором. Соломина не внушает подозрений, вот мышь и вылезает из своего убежища, не обращая внимания на то, что прикасается к соломине. Но на шкурке остается яд, а мышь такого потерпеть не может; она начинает вылизываться и околевает.
Читать дальше