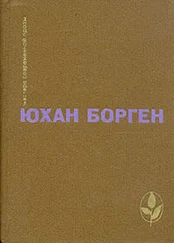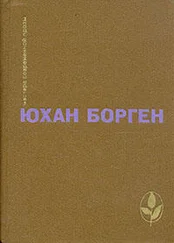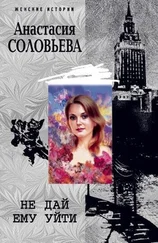Вилфред рассмеялся. Он стоял, держа в руках целое состояние, и отрешенно смеялся. Величественная почтариха широко раскрыла глаза: пачка с деньгами, да еще совсем непохожими на те, что она привыкла держать в руках.
- Хотите, парень прихватит эти ваши бумажки с собой в город и обменяет их на порядочные деньги?..
Вилфред смеялся. Просунув голову далеко в глубь почтового окошка, он заливался хохотом. Катерина вторила ему. Я боялась, как бы она не обиделась, что он так смеется над ее оплошностью. Но она и сама тоже развеселилась. Она даже не поняла своего промаха. Ее дело - гладить белье. А разные письма приходят все время, на то и почта...
Спустя полчаса весь поселок знал, что скандинавские гости разбогатели. На всех улицах вязальщицы, завидев нас, поднимали от работы глаза и провожали нас почтительными взглядами.
Может, уже тогда меня что-то кольнуло в сердце? Это беспредельное легкомыслие. Не то чтобы я особенно чтила деньги, но я любила порядок во всем и привыкла уважать хлеб насущный.
Он сказал:
- Ты уж прости меня. Я не знал, что ты всерьез тревожилась о деньгах.
Да, он и тут верно угадал и вообще был необыкновенно внимателен. Но, видно, моя озабоченность в свою очередь его раздражала. Можно ли свыкнуться с тем, что двое самых близких людей столь по-разному смотрят на житейские вещи? Он сказал и вновь угадал - до жути верно:
- Завтра ты снова сможешь играть!
- Откуда ты знаешь...
Он подмечал мои чувства лучше меня самой, и мне это было неприятно.
- Милая, - проговорил он, - я люблю тебя. А разве знать и любить - не одно и то же?
Мы снова стояли посреди улицы, на виду у всего поселка. И снова он на виду у всех обнял меня. Но теперь, когда мы сделались богачами, это не покоробило никого. Он засмеялся и, взяв меня под руку, повел домой.
- Вот видишь, мы их уже многому научили,- сказал он.
Мы подошли к гостинице. Хозяйка, улыбаясь, стояла в дверях. Ей уже сообщили великую весть. Любые вести мигом облетали поселок. Хозяйка поочередно обняла нас. Втроем мы болтали, как школьники в первый день каникул. А из ее уст беспрерывно сыпались похвалы - похвала обеду, который она сию минуту нам принесет, похвалы нам, ей самой, погоде нынешней, всему поселку и всей планете.
А в жаркий час полудня, когда сквозь открытые окна проникали к нам крики чаек, долетавшие до кровати, где мы лежали, я задала ему вопрос:
- Скажи, чего ты больше всего боялся тогда, в море?
Приподнявшись на локте, он взглянул на меня сверху вниз.
- Я уже думал об этом, - ответил он. - По правде сказать, я за обедом только об этом и думал. Кажется, я больше всего боялся умереть счастливым.
Но я пребывала в том тягостном состоянии духа, когда нужно непременно все знать, когда душа не может смириться с тем, что ее не допускают к другой душе.
- Но разве не лучше умереть, пока человек счастлив? Раз уж все равно надо умирать...
- Ты говоришь "пока"? Значит, ты ждешь, что...
- Нет, нет! Ты прицепился к слову. Раз уж ты заставляешь облекать в слова смутные мысли...
Он сел на кровати:
- Что за страсть все облекать в слова!..
- Допытываться до сути!
- Облекать в слова.
- Ты хочешь сказать: въедаться в душу?
- Я хочу сказать то, что сказал. Неужели ты никогда не замечала, насколько велик разрыв между мыслью и словом?
- Ты думаешь, что слова не объемлют мысли?
Я была полна злого задора, того, что всегда только все портит и разрушает.
- Дело не в том, что слова не объемлют мысли. Совсем напротив. Этим они и опасны. Мысли должны оставаться при тебе.
Мы лежали, и каждый прислушивался к дыханию другого. Старая игра. Разве не всегда влюбленные играли в нее? Наверно, всегда, когда один жаждал полностью раствориться в другом, а тот, другой, ограждал свою свободу. Оттого, наверно, слияние душ и подменяли слиянием тел. И сейчас я ждала его, ждала его тела. Но он не обнял меня. Я склонилась над ним. Он спал. Спал самым настоящим крепким сном. Мимолетная обида скоро сменилась любопытством. Я стала разглядывать его лицо.
Оно выражало полный покой. От носа до уголков рта уже пролегли еле заметные линии. Какими они станут через несколько лет, не проглянет ли в них угрюмство, побуждающее человека замкнуться, любой ценой отгородиться от всех - любимых, ненавистных, все равно, бежать от них в свой собственный уединенный мир, куда нет и не будет доступа чужим?!.
Ледяной ветер ворвался в окно. Чайки все кричали и кричали. Значит, близость между двумя людьми невозможна? Чужая... вот, значит, кто я для него. Разве не из-за этого веками страдали люди, не этого разве они страшились, не потому ли лишали себя жизни?..
Читать дальше