Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
Здесь, в степи глухой,
Замерзал ямщик…
Село уж замутилось в сизой дымке, и лес проступил темным гребешком у степного края. На вершине пологого увала чудом чудным бобылила одинокая, почерневшая у комля, кривая береза-таволга, на толстых, искрученных сучьях которой висели и завивались на ветру цветастые тряпицы, конские волосы. И русскими, и бурятами таволга суеверно чтилась, а потому всякий, бредущий ли пеши, едущий ли на коне, устраивал здесь передых и просил у бобылки легкого пути, одаривая старуху некорыстным гостинцем, — медный ли грош метнут, тряпицу ли подвяжут, конский ли волос защемят в коре, а то и просто, плеснут водки на комель. Вот и отец придержал Гнедуху возле сиротливой березы, кинул в снег медную копейку, молча постоял, опустив голову, а потом сел в сани и сказал: дескать, ну, тронемся с Богом.
С высоких, середь февраля по-майски заголубевших небес лениво навеивалось влажное тепло. Степь — бескрайняя снежная птица, вольно разметав крылья, кружилась перед Ванюшкиными глазами, взблескивала, заманчиво поигрывала мелким, искристым пером, заставляя парнишку сладко жмуриться и навевать дрему.
Среди череды морошных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядном мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребенчиш-ка, сиротливо гнусавила в печной трубе, из жалости просилась в избяное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, — милостью Божией тихо опустилась с небес на исхлестанную, настрадавшуюся землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-теплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком, мягкими ладошками. Небо заголубело по-вешнему, и лишь позади ездоков, над самым селом, уцепившись за охлупени крыш, висели тучки, похожие на задремавших черных котов.
Оттепель. Нежданная-негаданная оттепель.
Не-ет, видно, ошиблась Ванюшкина мать, не доверяя радио, посулившему нынче тепло, а все оглядываясь на лысого деда, — разбухший от снегов, поседевший от старости месяц, то с сережками, то с крестом, насылающий и насылающий грешным снежные бураны, словно теплую сиротскую зиму народишко не выскорбел. Да уж Господь с ним, с теплом, пусть бы и мороз скрипом скрипел, и дым бы столбом, и кухта кругом, лишь бы потише стояло, а то ведь так пуржило, что и свет белый мерк, собаку встоячь заносило и даже комлистого мужика с ног валила лютая пурга, и не виделось ей, лиходейке, укорота и угомона… Но, похоже, выстрадали, вымолили грешные теплынь, коль пожалел их Боженька и посередь февраля-лютеня, сразу после Сретенья Господня одарил вешним деньком.
Сретенская оттепель…
Вот и отец, раззодренный теплом, с горем пополам развязавшись с долгой гульбой, поумирав спохмелья, оклемавшись, припомнил летний посул матери и решил-таки наведаться в лес по жерди, и теперь пел, как древний бурят-чабан, вытягивая песню по всему санному пути, елозя на куплетах, пока не пересыхало в горле и не першило. На малую пору утомленная песнь ронялась из саней и терялась в дороге. Гнедуха настораживалась, приноровленная к отцову пению, тоже покойно и согласно, как отец, печалясь о своем вешнем, когда она еще не ведала хомута и резвым стригунком носилась по степному увалу вокруг бобылистой березы, провожаемая тревожным и досадливым взглядом своей матери. А может, Гнедуха тосковала о чем-то ином, несбывшем-ся в табунной молодости… Она ждала песню и, словно шлея под хвост попала, трусила вразнобой, дергалась, опахивала ездоков теплым и крепким навозным духом, и все косила на отца сверкающим темной досадой глазом. А как в ее прядающие уши снова насачивалась протяжная песня, ее подрагивающий мотив, тут же выравнивалась в ходкую, нешумную рысь. Легко напружиненные, долгие, лоснящиеся ноги красиво и старательно ходили в оглоблях в лад песне, черный хвост вольно полоскался на ветру.
Дорога была гладко вылизана недавней пургой, сани легко скользили по закрепшему насту, сбавляя ход лишь в нечастых впадинах, где дорога виляла среди колдобин и кочек с метенными на них глубокими суметами. Миновав занос, взбороздив его полозьями, Гнедуха сама по себе опять переходила в мелкую, нехлесткую рысь.
Ванюшка в сохатиных пимах, одетых на катанки, по самый нос утопая в козьей дохе с высоким, стоячим воротом, смотрел, как мерно покачивается отцовская спина, напрягая порыжевший полушубок, лопнувший подмышками, подпоясанный перекрученным кушаком; переводил глаза в блескучую степную бескрай-ность и слушал однообразный, плачущий голос, — саму песню, ее слова он по первости не мог путем разобрать. Слушал, и от того, что отец сидел к нему спиной, Ванюшке чудилось, будто песня навеивается из степи, напевает ее тихий ветер, но, когда отец шевелил затекшими ногами, поворачивался к парнишке боком, он видел замершее отцовское лицо, расширенный и так остановившийся глаз, видел слезы, поблескивающие в глазницах, — вышибленные встречным ветерком, — видел полуоткрытый рот, подрагивающие губы, обметанные седой щетиной, и понимал, что поет все же отец, и так ему стало жалко отца, так жалко, что к моргающим глазам сразу же приступили слезы, и, переполнив неглубокие глазницы, потекли по щекам, скопляясь в уголках губ, отчего посолонело во рту. Но жалость не мучала, наоборот, внутри Ванюшки что-то сладостно расслаблялось, легчало, будто распахивался на шее тугой ворот, подставляя еще недавно сжатую, сопревшую грудь бодрящему освежающему ветерку. Этот ветерок, казалось, протекал и сквозь него… Потом ему стало жалко и себя все той же утешительной и тоже вроде беспричинной жалостью, потом — мать, сестер Таньку с Веркой и всех-всех на белом свете, даже Гнедуху, пятую зиму живущую в хозяйстве, ставшую такой же родной, как и отец с матерью; а после — что уж совсем негаданно — стало вдруг совестно перед всеми за неясную, может быть, поджидавшую впереди вину…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
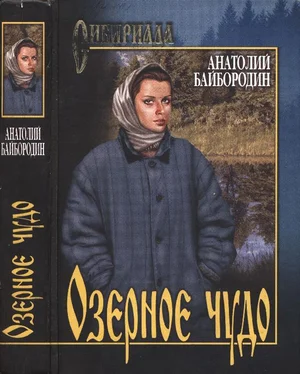
![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)










