Икбал все еще был под землей.
«Он умрет, это точно».
Мы больше не разговаривали по ночам. Никому не хотелось, да и зачем? До появления Икбала я и не думала, что нашу жизнь как-то можно изменить, я даже не мечтала, что может быть иначе. А потом появился Икбал и разбудил надежду во всех нас. Но теперь разочарование было слишком сильным. Он больше ничего не сможет сделать, а мы все слишком трусливые, чтобы восстать против Хуссейна.
«Он умрет, — думала я, — а я останусь совсем-совсем одна».
Хуссейн-хан вернулся в пятницу, день, посвященный Аллаху, когда все отдыхают — кроме нас, конечно. Он переоделся, поздоровался с соседями, которые пришли его навестить и спросить, как прошла поездка, ненадолго заглянул в мастерскую, мрачно сообщил Кариму, что после обеда он зайдет проверить нашу работу, и отправился обедать.
Нас не отпустили даже на обычный перерыв.
— Работайте, работайте! — кричал вспотевший и перепуганный Карим. — А то хозяин мне задаст.
Я работала, стараясь не замечать голода. Из хозяйского дома доносился пряный запах тушеной баранины, от которого щекотало в носу. Я ела такую, два или три раза. Женщины в деревне готовили ее на какой-нибудь важный праздник, и не дай бог, если она получалась недостаточно острой, если от нее не горел язык и не щипало горло, — мужчинам это не нравилось. Очень, очень вкусная баранина.
«Работай давай!»
Скорее всего, на сладкое у них были пончики с творогом. Посыпанные тростниковым сахаром. И корицей.
«Работай!»
А у меня были только голод, усталость и отчаяние.
Хозяин появился на пороге, в зубах зубочистка. Мы перестали ткать и поднялись из-за станков. Хуссейн-хан потер поясницу, взял портняцкий метр и листок, на котором в прошлый раз отметил длину ковров до его отъезда, и стал их мерить, очень медленно. Он прикладывал к ковру метр, потом брал доску и решал: минус три черточки, минус четыре черточки, а может, ни одной, потому что работа была плохая.
Никто не осмеливался спорить.
Хозяин не торопился с подсчетами, а Карим ходил за ним по пятам, как собака, выпрашивающая кость. Услышав приговор, каждый покорно опускал голову.
Салман: только одна черточка. Али: ни одной (тут малыш Али не смог сдержать слезы). Мухаммед: три (Мухаммед облегченно свистнул). Скоро подойдет моя очередь. Мария…
Хуссейн-хан остановился перед станком маленькой Марии, вытаращил глаза и злобно зыркнул на Карима, который ничего не понимал и даже поскуливал от страха.
— Что это такое?! — прорычал Хуссейн-хан.
— Я… я не знаю… хозяин… я… — бормотал Карим.
Мы все подошли ближе, и тут уж нас было не остановить. Марии всегда давали самую легкую работу — ковры с простейшими узорами, для которых не нужны были особые умения. Она была не очень ловкой и работала неважно, может, из-за глухоты или чего-то еще.
Хуссейн-хан утверждал, что держал ее из милости, но это было не так: она тоже выполняла свою часть работы.
Мы столпились вокруг станка Марии. В эти дни, воспользовавшись тем, что никто не обращал на нее внимания, и даже Карим вел себя так, словно ее на свете не было, она изменила свой ковер. Теперь вместо простого узора из желтых и красных полос на нем, в самой середине, красовался рисунок.
Это был воздушный змей. Большой, белый, с двумя длинными шнурами на хвосте, которые словно развевались на ветру. Вниз от него спускалась тонкая нить, а вокруг были хлопья голубого — небо. Он был прекрасен.
Рядом с этим своим рисунком Мария казалась еще меньше, чем она была, такая худенькая и незащищенная. Хуссейн-хан стоял разинув рот. Он попытался сказать что-то, но у него не вышло. Он посмотрел на Карима. Потом на всех нас. Потом на дверь, словно ища поддержки от хозяйки.
«Сейчас лопнет от злости», — подумала я.
Наконец он прохрипел:
— В Склеп! И эту в Склеп!
Мы инстинктивно придвинулись к Марии. Она была слишком слабой и хрупкой и не выдержала бы и дня в Склепе, и Хуссейн это прекрасно знал.
— В Склеп! — повторил он, но уже не так уверенно.
«Сделайте что-нибудь! — крикнула я про себя. — Ради бога, кто-нибудь, сделайте что-нибудь!»
Хуссейн протянул лапищу к Марии.
Краем глаза я увидела, как Салман, расталкивая локтями остальных, пробирается к нему.
— Если ты посадишь ее в Склеп, — сказал он, стараясь не дрожать голосом, — тогда и меня посади.
— Что? Что ты сказал?
— Я сказал: накажи и меня.
Несмотря на прыщавое лицо и руки, шершавые, как наждачная бумага, Салман в тот миг казался очень красивым.
Читать дальше
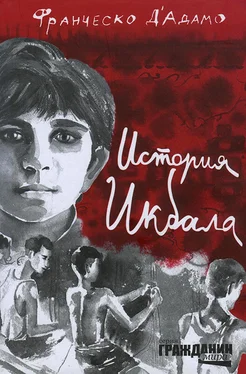



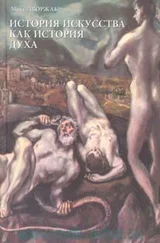



![Антон Перунов - Всадники. История Адама Борута [СИ]](/books/424127/anton-perunov-vsadniki-istoriya-adama-boruta-si-thumb.webp)



