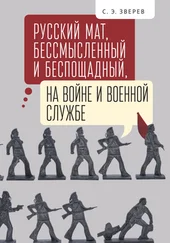Ален Боске - Русская мать
Здесь есть возможность читать онлайн «Ален Боске - Русская мать» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Русская мать
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Русская мать: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Русская мать»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Русская мать — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Русская мать», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мои объяснения, судя по всему, не много тебе объяснили. Ты кивала головой, подносила к носу чашку, загадочно вздыхала и скептически смотрела, но молчала. Уж лучше бы сказала, а так только взбесила меня. Я стал жесток, зол и несправедлив. Ты сама в своей Америке огрубела! Теперь явилась ни с того ни с сего ломать мою жизнь! Как какой-нибудь старый шкаф - двигают по углам, пока не задвинут в чулан. Нет в тебе никакого такта, лезешь под ногти, навязываешь свои глупости, а сама даже не пытаешься ничего понять! Не говоришь, а изрекаешь! Что за самоуверенный бред! Просто тошно слушать! Лично я уже давным-давно понимаю, что к чему, и в состоянии отличить любовь от интрижки... Скоро, впрочем, я сообразил, что выгляжу со своей руганью не умней тебя. Оба мы с тобой любители сделать из мухи слона и поскандалить. И я объявил тебе, что вообще не собираюсь на Марии жениться.
Сошелся с ней, она ничего, но я еще не решил, и, в конце концов, - да, лучше менять баб, как перчатки, и вообще жить свободным художником - ни от кого не зависеть, ни к кому не привязываться, делать что в голову взбредет.
Неужели на тебя не подействовало? Неужели не представила меня бродягой, пьяницей, стариком прежде времени, и как цепляюсь за уличные фонари, как не пропускаю ни одной юбки, усталый, неотразимый, гениальный и беззащитный?.. Нет-нет, подействовало, моя военная хитрость удалась. В самом деле, рассудила ты, лучше жить как живу, чем вообще черт знает как. Ты помолчала в замешательстве, потом нашла третий путь: почему бы мне не переехать в Штаты? В 45-м я и сам этого хотел. В Америке карьеру сделать легче. Я пустился в новые рассуждения. Америка для меня - так, эпизод, случай. Тут с меня взятки гладки. Нет, Америку я не ненавижу, но будущее мое - в Европе, а именно - в Париже. Это совершенно однозначно. Для этого я сделал все, что мог. И язык мой - французский. И никто и ничто меня не переменит. Ты сказала, что я упрям как осел, и продолжила ругать Марию. В пылу спора я сочинил небылицы. Поведал, как в самом центре Берлина во время знаменитой советской блокады 48 - 49-го годов меня арестовали восточные немцы, когда я ехал на служебной машине в штаб-квартиру генерала Панкова. Марию известил о том какой-то двойной агент. Она бросилась на выручку. Деньги и угрозы сделали свое дело - через пять-шесть дней меня отпустили. Ты так боялась русских, что совершенно поверила моим жалким басням. С величественной насмешкой сказала: женись мы на всех, кто спас нам жизнь, что бы с нами стало! На том и помирились. Вернувшись в музей, побеседовали умно и тонко о Пикабии и Жаке Виллоне. И еще три дня, вплоть до твоего отъезда в Мондорф, изо всех сил старались, ворковали как голубки. Незачем было говорить, с кем я: ночная кукушка все равно дневную перекукует.
Париж, июль 1977
Ну можно ли разбить на главки родную мать? И уродовать ее, обряжая словами! Сомнительным и рискованным делом я занят - описываю тебя в рассказе и являю в меру правдоподобной, не реальней и не сказочней персонажей собственных книг, каких я выдумал от начала и до конца. Хотя сильны во мне сомнения и угрызения, но еще сильней - потребность оживить тебя. Хочу быть честным. Честность, правда, кружит голову и порой, по-моему, может заморочить. Но как только я чувствую, что ошибся и исказил память о тебе, тут же понимаю и другое: пусть слова небезгрешны, но иначе тебя мне не воскресить. Пишу - живу. Написал - вновь обрел. Все прочее в мои шестьдесят - суета сует. О себе самом что ни скажу, все - неточно, даже искаженно: боюсь, возвышающий обман был мне дороже низких истин. Да, "обман" мне удавался, хотя хвалиться тут особо нечем: как любая уловка, увертка, он ослеплял, но ничего не освещал. С тобой - другое дело. Я должен рассказать и показать истину.
Мой долг - разогнав туман вымысла, представить твое подлинное лицо. Ради собственного же спокойствия не желаю никаких прикрас: правда и только правда.
Главное тут, наверно, - безотказная память. А на свою я, после всего, полагаюсь не слишком. Она то густа и гладка, то, так сказать, ершиста, то дырява, словно солдатский котелок на поле боя три года спустя, как война закончилась. То я злюсь, что она слишком полна, то стараюсь залатать прорехи подручными средствами, то есть добавляю отсебятины и порой перебарщиваю. И кого, в конце концов, я вспоминаю - тебя или, совсем уж смешно, себя в тебе? Ведь ты - мое зеркало. А может, за давностью лет и нечеткостью следов, теперь я - твое зеркало? Мы то подтверждаем, то отрицаем друг дружку, наконец и вовсе блекнем, становимся только слабым отражением образов невозвратимого прошлого. Но отказывает память - помогает чувство, и, пожалуй, думаю я, написанное - то же, что пережитое. Ты есть то, что смог я выразить. Сказал - воззвал из небытия. Да, я в плену у чувства. Оно может исказить. Оно то терзает, то ласкает, тем самым навязывая мне тебя, ту или иную. Потому твой образ выходит у меня не слишком беспристрастно, но он прочней, долговечней, чем все те, что подсказаны памятью, то верной, то нет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Русская мать»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Русская мать» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Русская мать» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.