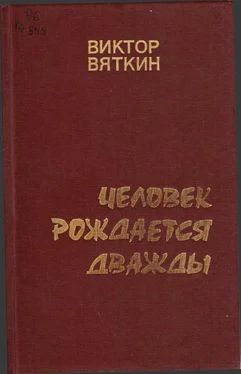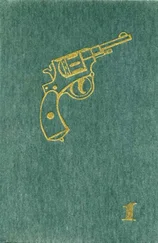Утром оперуполномоченный пытался разобраться в ночном происшествии, но всё сводилось к одному — сорвался с крыши.
Петров в медпункт не обратился, выходил с бригадой, но не работал. Когда десятник сделал замечание, бригада в один голос заявила:
— Ваше дело принять объёмы и качество, а как организовать работу, это уже дело наше.
После суда Прохорова поместили в городскую тюрьму, В карантинной камере, кроме худенького старика, никого не было. Длинная холщовая рубаха делала его похожим на вылезающий из земли подосиновик.
Когда Прохоров вошёл в камеру, старик сладенько улыбнулся:
— С миром божьим, сынок, Устраивайся и не ропщи. Все мы под богом ходим.
Прохорову было не до него. Не ответив на приветствие старика, он лёг на нары и отвернулся.
— Вот и всё. Доездился, лихач. Не пей за рулем, сукин сын, — прошептал он.
Он как бы со стороны увидел статного парня. Гордость их провинциального городка, центрфорвард футбольной команды, да ещё и шофёр — заветная мечта его сверстников. «Петя, выручи! Петя, подвези! Петенька, приходи». Жизнь только начиналась.
— Вот и всё, заключенный Петров, — повторил он.
Ему вспомнился последний день его вольной жизни, перевернувший всё…
Тёплый майский день. Загородная прогулка. На опушке леса водители поставили машины. На берегу мужчины в белых рубашках и соломенных шляпах терпеливо наблюдают за разноцветными поплавками. Среди них поклонник Прохорова по стадиону, будущий спортсмен и заядлый рыбак — черноглазый мальчишка Минька.
На разостланных одеялах, с корзинами и свёртками, под деревьями дремлют женщины, прислушиваясь к звонкому смеху и восторженным голосам детворы. Все радуются. К нему подбежала белокурая девочка Майя.
— Дядя Петя, дядя Петя! Вот вам венок. Вы будете сегодня Спартак.
Её беленькое платьице снова замелькало в траве.
Припомнилась и другая картина.
Кое-как он выбрался из раздавленной кабины. Минька лежал в кювете, согнув ноги, и трогал выпирающие кости бёдер. Люди начали приходить в себя. Пыльные, грязные, со следами тёмных пятен на одежде и лицах, в царапинах.
Девочка Майя будто спала рядом с перевёрнутой машиной. Только не было видно головы, а из-под зелёного борта выглядывала длинная косичка с белым красиво завязанным бантиком…
Раздирающий сердце крик матери; «Что ты наделал, подлец?..»
С тех пор его жизнь протекала в каком-то кошмаре. Он был бы рад рассчитаться с ней, но и на это недостало сил.
Снова заговорил старик:
— Ничего, сынок. Не зная горя, не изведаешь счастья. Ты бы поплакал, пока никого нет. Слёзы как худая кровь — выпустил, и полегчало.
Прохоров не пошевелился.
— Не хочешь плакать, богу помолись. Христос поможет. Хочешь, я тебе свЯщенное писание почитаю? Придите ко мне все страждущие и обременённые, и я успокою вас… — услышал он за спиной монотонное чтение.
— Не гнуси, старый, и не подходи близко, — презрительно прикрикнул он, вставая.
С невозмутимым смирением старик отправился на своё место.
Пройдя карантин, Прохоров попал в общую камеру. Здесь он узнал о формировании партии заключённых на Крайний Север, Он тут же подал заЯвление.
…Звякнул засов вагона, и Прохоров, очутившись среди заключённых, понял, что только сейчас он вступает в незнакомый для него мир.
В теплушке было тесно и душно. Он огляделся. На нарах мест не было.
— Братва, фраер! — раздался чей-то голос.
— Откуда? Где засыпался? Побожись по-ростовски, — встретили его перекрёстными вопросами. Он коротко ответил. Кто-то равнодушно бросил: «фрей», и интерес к нему сразу остыл.
Прохоров придвинул к себе деревянную скамейку, положил на неё пальто, вещи, сел и устало откинулся к стенке.
Обитатели вагона уже обжились. Один уткнулся в замызганную книжку, другие переговаривались или молча смотрели на потолок. С краю на нарах двое мастерили из хлебного мякиша различные поделки. На самодельной полочке сушилась чернильница с подставкой для ручек в виде перекрещённых хвостов русалок.
Косматый, с рыжей щетиной мужчина пришивал пуговицы к фланелевой куртке, кряхтел, вытягивая иголку. В углу играли в карты.
Прохоров испытывал к этим незнакомым людям чувство необъяснимой неприязни. Стали противны не только люди. Даже хлеб не хотелось есть. Его будто запачкал смрад непристойщины, пропитавшей все уголки вагона. В душу закрадывалось отчаяние. Он закрыл глаза и задремал.
Разбудил шум. Широкоплечий брюнет, изрисованный татуировкой, сквернословя, дул на карты, осторожно выдвигая нижнюю. И вдруг он взвыл, швырнул карты на нары и с силой ударился головой о стенку вагона. Хохот, крик и самая разнузданная брань заглушили его стон.
Читать дальше