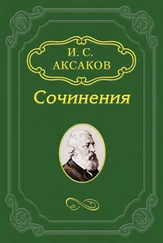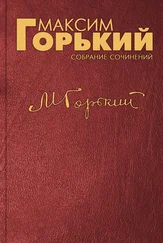Триполитанская площадь, Эфиопский бульвар… Какие красивые названия! Напоминают о жарких странах. Можно будет оставить малышей на бабушку, а самим съездить или слетать на самолете… Вряд ли. Сальваторе нравится север, он любит туманы, ветер, мороз. Любит Милан, миланские предместья, где высится лес заводских труб, где стоят подъемные краны, сооружающие новые заводы, новые рабочие районы… Вот он выезжает на улицу Лорентеджо — широкую плохо освещенную улицу с двусторонним движением, с большим количеством перекрестков, без светофоров. Он врывается на нее и заглатывает вмиг, будто за ним по пятам мчится на мотоциклах автодорожная инспекция. Куда это он? Впереди конечная остановка, знакомая ротонда, которую объезжает восьмой и двадцать второй. Дальше полосой заводы «Ригини», «Бруза», «Ломбарда», «Текномерк»… А потом — потом начинается поле. Покуда в городе — полбеды, но за город, вечером, зимой, без пиджака, без свитера, даже без захудалой майки? Ибо к этому времени последние сомнения были рассеяны. Маневр оказался тем более сложным, что требовал максимума деликатности и осторожности. Одно из двух: не по размеру была пуговица, или ослабла петля. Как бы там ни было, а осторожностью пришлось пренебречь. В результате, пуговица осталась у нее в руке. Что с ней делать? Зажать в пальцах — мешает. Выпустить — нехорошо: потеряется. Марианна соображает, как быть; тем временем убеждается, что пуговичка маленькая, с двумя дырочками. Рука потихоньку отступает, вылезает из-под рубашки, из-под кожанки; скользнув вдоль бокового шва, нащупывает карман и проникает в него — ровно настолько, чтобы опустить пуговицу. Возникает еще один щекотливый вопрос, — а именно: если он заметил операцию с пуговицей, надо дать ему знать, чтобы он ее не выбросил; если же не заметил, то как сделать так, чтобы он не подумал плохо об этой руке, залезающей в карман… Все это, конечно, при условии, что он думает, рассуждает, формулирует какие-то мысли. Обращает внимание на что-либо, кроме вождения мотороллера. Сейчас он старается, не сбавляя скорости, так срезать угол площади, чтобы не наехать на трамвайный путь, кольцом охватывающий конечную остановку. «Ламбретта» наклоняется, чуть не ложится на бок… Ну, уж это слишком! Одного виража ему показалось мало, он хочет сделать еще один, ниже пригнувшись к земле. Что это? Расплата за унижения, которые он терпел на этом самом месте, вечер за вечером, когда его любимая, натянув ему нос, уезжала на двадцать втором? Еще один круг? Еще? Перестань об этом думать, Сальваторе! Перестань! Что было, то прошло. То была другая Марианна. Скажем так: она, как «Ламбретта», нуждалась в обкатке. Теперь доведена до кондиции. Можешь делать с ней что хочешь. Что же до «Ламбретты», то если завтра утром ее продать, то на вырученные деньги можно купить… Ну, скажем… Если начать с самого необходимого…
Марианна закрыла глаза. До сих пор она, слава богу, держалась неплохо. Думала: мужчина, в отличие от женщины, существо слабое, неуверенное в себе. Его надо пришпоривать, надо помогать ему быть гордым, напористым, до тех пор пока он не почувствует себя настоящим мужчиной. Но эта сизая полоса на черном асфальте, это холодное изогнутое дугой лезвие, мчащееся навстречу и стремительно убегающее назад под самыми каблуками… Это уж слишком! Это уже самый настоящий садизм. С закрытыми глазами лучше. Можно вообразить, что мэр решил ликвидировать трамваи и заменить их троллейбусами, а трамвайные рельсы залить гудроном. Можно объяснить себе этот наклон еще тем, что земной шар — круглый: «Ламбретта» мчится по касательной, будто ножка циркуля. Что скорость и тряска… Ах, как жаль, что ей с самого начала не пришло в голову закрыть глаза! Пропустила столько неповторимых ощущений. Словно ты наедине со вселенной, похожей на розовую раковину, запомнившуюся с детства. Марианне было тогда лет двенадцать-тринадцать; бывало, прижмешь раковину к уху и слушаешь, сколько хочешь, рокот волн, вой ветра, шуршание шелка… Сегодня это голос большого города, все громче грохочет улица (молодец, Сальваторе; за город отправимся в другой раз, пешком; захватим с собой транзистор); кричит радио; заорал патефон или, вернее, мощный динамик возле карусели; доносятся разговоры, возгласы, смех, кто-то кого-то зовет…
Когда рука — все та же — от ворота кожанки (куда она время от времени возвращается, чтобы поразмыслить и набраться смелости) проникает вглубь, ладонь ее ложится, распластавшись, посредине груди. Оттуда скользит книзу (теперь преград в виде пуговиц нет), не слишком прижимаясь, а то ведь неприлично. Дальше тугой пояс. Поэтому руке приказано возвращаться, все так же потихоньку, не слишком прижимаясь. И так, вверх-вниз, вверх-вниз, стараясь едва касаться тела. Но практически эти старания напрасны: приходится прижиматься, даже сильно прижиматься, потому что этот безумец… Ну, ладно: ты — ас, волшебник, акробат, фокусник… Но в самом центре города! В воскресный вечер! И зачем? Что у него на уме? Ведь все равно каждые сто, двести, самое большое — пятьсот метров вынужден останавливаться, выписывая на мокром асфальте (долго ли до беды!) змеевидную кривую. Только зря расходует бензин, протирает покрышки, портит тормоза. Сам сидит как вкопанный, не шелохнется. Еще бы! Ноги на педалях, руки на руле. Ее же бросает из стороны в сторону — приходится цепляться, хвататься за что попало, что попадает под руку. (Не сделать бы ему больно!)
Читать дальше