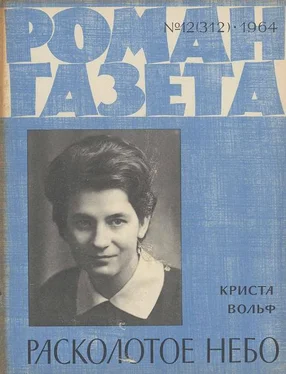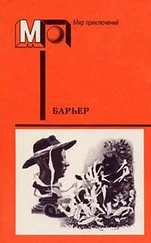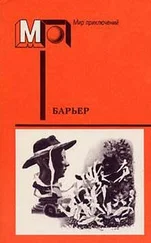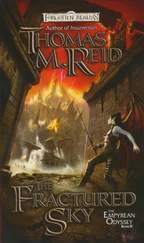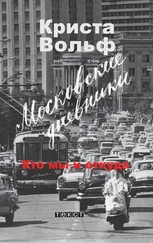С каждым его словом силы убывали у нее. Такого бессилия, такой тоски она не испытывала еще никогда. Душу ее захлестнула сокрушительная тоска по тем краям, где он отныне будет жить, по тем неведомым пейзажам и лицам, которые будут отпечатываться в его памяти, тоска по долгой полноценной жизни вдвоем. Кому дано право ставить человека — пусть даже одного-единственного человека! — перед таким выбором, который при любом решении отнимает у него частицу души?
Ей казалось, что она теперь лучше знает этот чужой город, вернее, этот чужой кусок большого города, чем люди, годами живущие в нем. Он населен обычными людьми, но сам он необычный город. В отличие от других городов, его дни и ночи складывались из чуждых ему жизненных сил. Как будто многомиллионных человеческих усилий, направленных на борьбу с хаосом и смутой, не хватило именно для этого города. Он жил во власти минуты, дрожа перед неотвратимым вторжением действительности. Все то, что было сотни раз испробовано и отвергнуто, здесь навязывалось как добротный товар. И жертва этого недобросовестного торга — человек — не замечал, что каждое его движение кем-то строго регламентировано…
— Где ты витаешь? — спросил Манфред и улыбнулся. — Не делай из этого трагедии. Что, собственно, произошло? Я все равно был здесь. Мне сделали заманчивое предложение. Я остался… Самое обычное дело.
— Только не в наших условиях, — возразила Рита. — Я своими ушами слышала, как твоя мать с гордостью рассказывала, что сама списалась с теми двумя типами, которые тебя завербовали. А ты знаешь, почему она это сделала? Знаешь, что она не могла примириться со своей загубленной жизнью? И хотела, чтобы именно ты возместил ей все, потому что ты ее презирал. Знаешь, что сказал Вендланд: „Я многим готов это простить. Только не ему. Он понимал, что делает“.
— И тут Вендланд! — вне себя от бешенства воскликнул Манфред.
Безмолвной договоренности не оскорблять друг друга как не бывало.
— И тут он. А уж кому бы, казалось, знать, что происходит! Ведь он получает сведения не только из газет. Он видит, что творится за кулисами. Думаешь, я в свое время не был окрылен надеждами? Не считал, что достаточно вырвать корень зла, как все зло исчезнет с земли? Но у зла тысячи корней. Все до конца мудрено выкорчевать. Не спорю, упорствовать в попытках — занятие благородное. Но без веры благородная поза смешна и уродлива. Думаешь, приятно, когда тебе втирают очки? Ты с этим сталкиваешься впервые, а я нет. В этом вся разница. Здесь у меня иллюзий нет никаких. Здесь я готов ко всему. А там неизвестно, сколько надо ждать, пока на смену красивым словам придут дела. А главное — человек не создан быть социалистом. Когда его к этому принуждают, он изворачивается, как уж, пока не доберется до сытной кормушки. А твоего Вендланда мне просто жаль, честное слово!
— Почему ты так на него злишься? — тихо спросила Рита.
Своим вопросом она окончательно вывела его из себя. Он готов был ее ударить. Она и не подозревала, что он способен на такое безысходное отчаяние. В этот миг ему стало ясно: та жизнь, от которой он бежал, которую поносил, до конца дней будет держать его в своей власти. И это его бесило. Он презирал себя за то, что не устоял под напором суровой и трудной жизни, и досаду на себя вымещал на другом.
„Если бы я ушла с ним, — думала Рита, — я причинила бы вред не только себе. Я причинила бы непоправимый вред ему, в первую очередь ему“.
— Все было бы гораздо проще, — объясняет Рита Шварценбаху, — если бы там по улицам рыскали каннибалы или если бы там голодали, а женщины ходили бы с заплаканными глазами… Но людям живется там хорошо.
Они даже жалеют нас. Они считают, что сразу бросается в глаза, где живут богато, а где бедно. Год назад я бы пошла за Манфредом, куда бы он ни пожелал. А сейчас…
Вот это-то и нужно знать Шварценбаху.
— Что сейчас? — с нетерпением переспрашивает он.
Рита задумалась.
— Через неделю после того, как я вернулась от Манфреда, было воскресенье, тринадцатое августа, — говорит она. — Услышав утренние известия, я сразу же пошла на завод. Оказалось, я была не единственная, и тут я поняла, что неспроста на завод пришло в этот воскресный день столько народу. Одних вызвали, другие явились сами.
Шварценбаху понятен смысл ее слов. Нечто подобное пережил и он в тот воскресный день.
— Но ведь вы его любили, — говорит Эрвин Шварценбах. — Для многих девушек это важнее всего. А для вас?
— Сколько раз я сама пытала себя. Ночью лежала без сна и представляла себе, как бы я жила там, вместе с ним. Днем не находила себе места. Но чужбина оставалась мне чужда. Здесь мой дом, моя родина.
Читать дальше