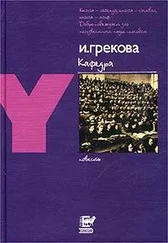Последнее относилось, конечно, ко мне. Анфиса любила меня попрекать тем, что я, мол, не знаю жизни.
В это сложное время Вадим стал мне почти врагом: еле кланялся, никогда не заходил, на мои попытки общения отвечал ухмылкой. Дела его в институте шли неважно. Разговоров об этом он не любил, но гордость не позволяла ему врать. Он все признавал. Хвосты по математике — да. По языку — тоже да. Подумаешь, пересдам. А нет — тоже не страшно.
Однажды он сказал:
— Ничего вы не понимаете, хоть и старая. Ах, высшее образование! А какой толк? Вот у вас высшее, а жизни не знаете...
Оба ссылались на жизнь — и Анфиса, и он. Может быть, я и в самом деле не знала жизни? Мне было горько, очень.
А Вадим ходил в институт, опьяняясь своим пренебрежением к нему. Все в институте было ему противно: и золотые памятные доски, напоминавшие о тех, кто когда-то здесь учился (подумаешь, наука!), и портреты ученых в коридорах (среди них был и тот самый, с желтыми зубами, высший математик, читавший первую лекцию, а после с наслаждением поставивший ему две двойки), и стенные газеты, полные какими-то сплетнями о нарушителях дисциплины, об отстающих. Вадим сам был в числе отстающих, но отставал не по глупости, а по гордости: этого никто не хотел понять. Топили в институте неистово, несмотря на теплую погоду; от раскаленных батарей несло банным жаром, и Вадим задыхался. Лекций он, в общем-то, не слушал, посещал их через две на третью, только бы отстали контролеры. А контролеров кругом было достаточно: староста, комсорг, профорг. Их Вадим ненавидел, помимо всего и за то, что все они были бабы. Особенно он не терпел профорга Люду Никитину с ее молочной полнотой, белокуростью, золотыми сережками в маленьких чистых ушах. Проводя с ним воспитательную беседу, она краснела малиновым пятнистым румянцем и покусывала кончик карандаша беленькими стройными зубами. Вадим был убежден, что и беседы, и перевоспитание — вранье, а на самом деле она просто в него влюблена. Вадим был красив и знал, что красив; это сообщало его повадке с женщинами какое-то тяжеловатое хамство. Правда, сейчас он был далеко не так красив, как в детстве, когда мимо него нельзя было пройти, не обернувшись на его черные глаза и великолепную улыбку... Но он себя в детстве не помнил и сравнивать не мог.
На одной лекции по теормеху (теоретической механике) рядом с Вадимом оказался мало знакомый ему толстый студент в очках по фамилии Савельев, со странным бабьим именем Клавочка. У него была неопрятная челка почти до самых очков, на жирной груди рубаха с оторванными пуговицами и в одном ухе — серьга. Он что-то усердно рисовал в своей тетради. Вадим заглянул ему через плечо: что он там рисует? Оказалось, голых женщин. Вадим вообще таких рисунков не любил, но эти показались ему выполненными довольно искусно. После лекции они вышли вместе. Вадим спросил:
— Ты что, художник?
И ожидал в ответ что-нибудь вроде избитого: «Да, от слова «худо». Но Клавочка сказал другое:
— Я никто. — И подмигнул круглым карим глазом из-под треснувшего стекла.
— Ты бабами увлекаешься?
— Ничем я не увлекаюсь. Просто существую.
Это Вадиму понравилось. Он тоже хотел бы просто существовать, но у него не получалось. Всегда выходило, что он кому-то что-то должен.
Так они познакомились. Поругали профессора теормеха и заодно сам теормех, который неизвестно зачем нужен, потому что в жизни такие абстракции не встречаются. Клавочка сказал, что вообще науки не нужны, а главное — иметь инженерный нюх. Это тоже Вадиму понравилось, выходило, что не так уж он плох со своим небрежением к наукам, а нюх у него был, он чувствовал его в груди. Впрочем, он на симпатию плохо поддавался (если человек ему нравился, он прежде всего подозревал его в корысти). Он спросил у Савельева с подковыркой:
— А почему тебя зовут Клавочкой, как бабу?
— Умные родители, интеллигенты в первом поколении, искали мне редкое, красивое имя и нашли: Клавдий. Удружили. Я сначала переживал, хотел официально менять, через газеты: мол, такой-то Клавдий Савельев меняет имя и фамилию на Гений Ветошкин. Но раздумал. Игра не стоит свеч.
— Я вообще ненавижу красивые имена, — сказал Вадим, у которого тоже было красивое имя, и вся горечь против матери в нем всколыхнулась, пошла кругами.
Вскоре у Вадима с Клавочкой завелась дружба — не то чтобы настоящая дружба, а нечто вроде солидарности отверженных. Роднило их острое отвращение к математике и критическое отношение ко всему вообще. Оба презирали институт, науки, передовиков и карьеристов, всех и всяких воспитателей и перевоспитателей. Только выражалось это у них по-разному: у Клавочки весело, а у Вадима трагично. Клавочка паясничал, передразнивал профессоров, произносил длинные речи за комсомольских руководителей, бичуя лень и разгильдяйство, строил рожи за спиной своих воспитателей (воспитывать Клавочку считалось на курсе самой тяжелой общественной нагрузкой), и все это беспечно, порхающе. Вадим так не мог. Он весь кипел изнутри, когда его воспитывали. Главное, в чем-то он все-таки им завидовал. Опять перед ним маячила завидная чья-то общность, умение войти, слиться. Клавочка никому не завидовал. Он был сибарит. Он говорил:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу