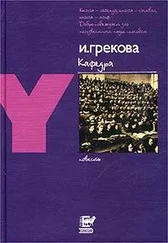...Начал заново себя сознавать уже выздоравливающим, слабым, капризным, в новой квартире на пятом этаже, которую им дали взамен ошибочно реквизированной. Папе с мамой квартира нравилась: просторная, четырехкомнатная, с высокими потолками и большими окнами. Правда, от окон дуло. «Зато как хорошо тут будет летом!» — говорил папа. Он вообще был весел, бодр, без конца пропадал у себя в школе, где организовывал какие-то курсы по ликвидации безграмотности. «Скоро в нашей стране каждый будет уметь читать и писать!» — говорил папа, отогревая руки на стакане с горячим чаем. А ему, Феде, новая квартира была не по душе, он скучал по старой, обжитой, с привычными вещами, даже с окнами, заклеенными сахарной бумагой там, где пробила пуля. Здесь от больших окон все время дуло, а топить было нечем; кое-как с грехом пополам отапливали одну комнату, где поставили все вещи, сбереженные Фадеичем в его «сараюшке»; остальные, выброшенные во двор, пропали, в том числе шкаф с запертым на ключ секретным ящиком; ключ был тут, а шкафа не было! Скандалил, плакал, требовал у мамы невозможного: вернуть шкаф... «Ну что ты как маленький, — говорила она, смеясь, — и не стыдно? Подумай, скольким людям сейчас куда хуже, чем нам, а ты все шкаф да шкаф!» Он рыдал так, как будто там, в секретном ящике шкафа, он запер часть своей души. А липа-то, в дупле которой были спрятаны сокровища? Нет, никто его не понимал, не только Варя, даже мама, любимейшая из любимых! Выздоравливал долго, нудно, не сразу встал на ноги, а когда встал, поначалу не умел ходить: все его заносило куда-то, все шатало...
Много лет спустя он сходил-таки в тот двор — посмотреть, что сделалось с дуплом, целы ли сокровища? Двор был до смешного маленький, а прежде казался большим. Дупла не было, липу спилили. Посчитал, от нечего делать, годичные кольца на срезе ствола — оказалось, сто двадцать.
А новую квартиру он так и не полюбил — ни тогда, ни после. Что-то было в ней обреченное. Она как будто несла в себе все страхи и несчастья будущего. И все его нечистые, лживые годы. И потолок, пробитый бомбой. И мамину смерть...
Но еще много должно пройти, пока все это будет.
Военный коммунизм, как это теперь называется. Тогда это названия не имело. Просто было трудно, темно, холодно, голодно.
Вспоминая об этом времени, он его уважал и даже в каком-то смысле жалел. Бедные годы, по-своему героические, но как их заслонила блокада, куда более страшная. Унесшая куда больше жертв. Как Великая Отечественная война заслонила финскую...
Все-таки стоило вспомнить, помянуть годы военного коммунизма. Мало осталось тех, кто их помнит. Данью уважения пусть будут мысли о них. Пусть отрывочные, бессвязные.
Зима какого-то там года (девятнадцатого? двадцатого?). Зима жестокая, скудная, бедная.
Папу мобилизовали, он воюет, они остались втроем: мама, он и Варя. Мама, смеясь, его обнимает: «Ты теперь единственный мужчина, глава семьи!» Удивительно, как она умеет всегда оставаться веселой. В квартире мороз. Топить нечем. Последние где-то выданные дрова сожжены.
Выходим гулять с Варей; во дворе кажется теплей, чем дома. Деревья бархатно-белы, мохнаты. Вороны прыгают молча.
Варя закутана по уши. На ней синее пальтишко с облезлым черным воротником: рукава коротки, из них торчат озябшие, фиолетовые запястья. Поверх всего — мамин дырявый платок, называется «бывший козий». На пухлом надгубье — болячка (от недоедания). Почему эта смешная фигурка видится так отчетливо, словно сейчас, сию минуту идут они по серому скрипучему снегу?
Заходим в обширный двор бывшего коммерческого училища (оно давно закрыто, здание пусто). И вдруг — находка! В углу двора, припорошенная снегом, какая-то груда вещей, накрытая рогожей. Оказывается, парты!
Чьи они? Очевидно, коммерческого училища. Но оно же закрыто? Значит, ничьи. Значит, мои с Варей. Мы же их нашли!
Законность ворочается в душе. Уважение к чужой собственности: «Не укради!» Кто-то же их накрывал рогожей? Значит, чьи-то.
Но они деревянные. Могут гореть. Вижу огонь, мысленно греюсь. Прекрасно! Дух захватывает. Решаю: парты все равно что ничьи. Пойдем вечером. Когда стемнеет.
Вот и вечер. Синий, угрюмый. Сани на поводке, сзади. Веревка в руке. Варя послушно плетется рядом с санями. На добычу идем, на добычу!
Страшновато. А вдруг у парт поставили сторожа, да еще с ружьем? Чтобы себя подбодрить, читаю загадочным голосом стихи А.К. Толстого «Волки». Может быть, не все слова помню. Но это неважно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу