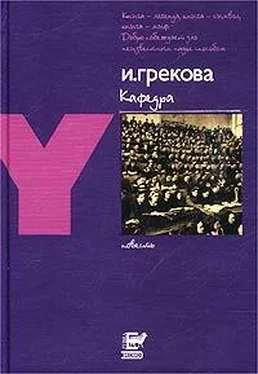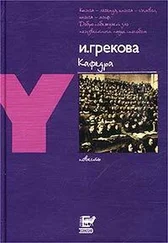Теперь он уже мог без боли душевной, даже с тихой радостью смотреть на портрет Лизы, висевший у него над изголовьем. Последняя ее фотография, уже фронтовая, увеличенная и, как водится, безбожно отретушированная в мастерской. Откуда-то взялись на ней черные брови, которых у Лизы отродясь не было. Нет, не красива. Простое, даже грубоватое, русское лицо. Гимнастерка с мятыми погонами, полевая сумка через плечо. Прямые, ровно подстриженные, будто обрубленные волосы (светлые в жизни, они на снимке казались темными). Пилотка надета прямо, и взгляд прямой, ни тени кокетства — вся как есть.
Лиза такая и была — бесхитростная. Любила все простое, обыкновенное: бегать босиком, грызть семечки, смеяться на кинокомедиях. В школе училась неважно: нет-нет да и троечка. Пробовали учить ее музыке, языкам — никакой охоты. Спрашивала у отца: «Ну почему у нас такая особая семья — никого не учат музыке, а меня учат?» Хотела быть как все, наравне со всеми...
Зрительное воспоминание о Лизе: коротенький нос в веснушках, честные серые глаза (один с карим пятнышком) и на розовой нижней губе печатью обыкновенности скорлупка от семечка.
В начале войны Лизе было семнадцать лет. Она сразу же ушла на фронт. Убили ее в декабре сорок третьего...
Что тут сказать? Бывают в жизни вещи, о которых сказать ничего нельзя: слова падают, мертвые, оземь. Удивляешься, как ты это вообще перенес, выжил. Удивительной прочности существо — человек. Убит, но живет.
Николай Николаевич сам получил у почтальона извещение о гибели Лизы. Развернул, прочел, не понял. Еще раз прочел — не осознал. В голове было пусто, одна только мысль: как сказать Нине? Но говорить не нужно было. Она по его лицу все поняла и стала от него отступать, пятясь, вытянув перед собой руки, словно обороняясь. Эти дрожащие бледные руки с обращенными к нему толкающими ладонями он до сих пор видит отчетливо. Только руки, опять не лицо.
После гибели Лизы Нина Филипповна как-то молниеносно, круто постарела, поседела, выцвела. Вот такой — старой, бесцветной — он помнил ее превосходно. Грустные глаза — потрескавшийся бледный фаянс. Сухие пальцы, вечная манера что-то ими трогать, перебирать, словно не лежалось им нигде: ни на ручке кресла, ни на колене. Вялое ухо, полуприкрытое седенькой прядью. В последние годы волосы у нее стали катастрофически выпадать, как шерсть у линяющего животного, — прямо горстями обирала она их с головы, целыми клубками наворачивала на гребень. Грустно шутя, говорила: «Лысею, скоро будет нас двое лысых — ты да я». Ошиблась, до лысины не дожила.
Ему было легче, чем ей. Кроме горя у него было еще многое. Институт, кафедра, ученики, семинары, конференции, доклады — со всем этим он мог кое-как жить между «плохо» и «очень плохо». В конце концов, когда улеглось и обмялось горе, ему временами было почти хорошо. А ей?
Все это он понял, когда остался один.
ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА И ТЕЛЕВИЗОР
Дарья Степановна, квартирная соседка профессора Завалишина, его домоправительница и домашний тиран, была в своем роде человек примечательный. Седая, прямая, красивая. Редкой правильности лицо — северная камея. Целые блестящие волосы стрижены в скобку, гладко забраны назад ото лба круглой гребенкой.
Дарья Степановна была из тех людей, которые знают, «как надо». Сам Энэн никогда этого не знал. Вечно его терзала проклятая объективность, привычка смотреть на вещи с разных точек зрения. Эта черта особенно усилилась у него к старости. Мир для него был как одна из тех хитрых картинок, оптических фокусов, где, меняя настрой и прищур, можно увидеть одну и ту же фигуру то выпуклой, то вогнутой. За последние годы он стал страдать от этого почти физически, как, вероятно, страдал буриданов осел между двумя охапками сена.
Люди, знавшие, «как надо», одновременно и привлекали его и отталкивали. Дарья Степановна больше привлекала, чем отталкивала; в ее определенности была драгоценная для него черта — нелогичность. Если человек, знающий, «как надо», еще и логичен — спасенья нет.
Дарья Степановна, ныне пенсионерка, прежде была поварихой. Начала она свою рабочую жизнь в экспедиции «по апатитам», на Кольском полуострове. Видно, это было для нее светлое, достопамятное время. Рассказывать о нем она не любила, но иногда произносила загадочную фразу: «Апатиты оправдают», сопровождая ее мгновенным блеском улыбки, чуть приоткрывавшей стальные, нержавеющие резцы. Улыбку ее, вообще редкую, Николай Николаевич любил, как ни странно, именно за стальной блеск зубов, нарушающий неприступную безупречность лица.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу