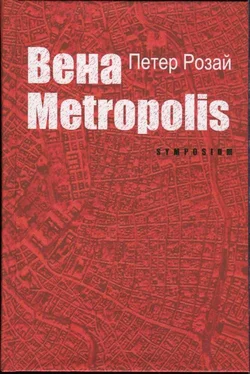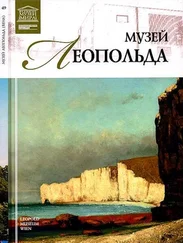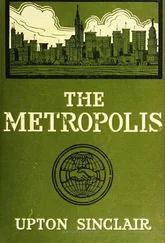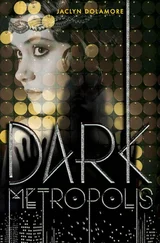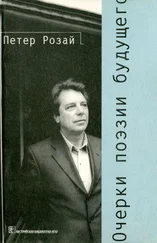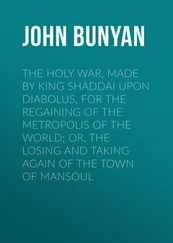А что же Клара? Когда он ждал ее на станции городской железной дороги, она узнавала его издалека по тому, как он стоял в темном вестибюле, по пиджаку и великоватым ботинкам, по вытянутой вперед шее, по опущенным плечам, по рукам, которые он держал в карманах брюк, и по тому как он, о чем-то глубоко задумавшись, молча смотрел прямо перед собой. Тогда в ней возникало сострадание или что-то такое, что можно бы назвать материнским чувством. И выплескивалось наружу, когда они, взявшись за руки, шли вместе по аллее вдоль Гюртеля [9] Вторая кольцевая улица Вены, опоясывающая город («гюртель» по-немецки — пояс). Была создана в 1890-х гг. на месте бывших фортификационных сооружений, составлявших первую линию обороны города.
, вместе, а может, каждый сам по себе. Мимо проносились автомобили, Клара вскоре умолкала, ее пугало, что Альфред не произносит ни слова, только слушает ее. Ее пугала и та категоричность, с которой он порой отстаивал свое мнение, то упрямство, с которым он устремлялся к цели. Правда, его рассуждения не вели далеко, и он быстро начинал путаться в противоречиях, сам замечал это и умолкал, оборвав фразу посередине.
Они больше не спали друг с другом.
Однажды Клара заикнулась о том, не стоит ли им пожениться. Когда Альфред вспоминал об этом разговоре, его разбирал смех. Громкий смех.
Маму он в последнее время часто видел под хмельком. Не то чтобы пьяной: слегка пошатываясь, в заляпанном длинном халате с замызганной нижней кромкой, она бродила по комнате, наталкиваясь на мебель, на предметы обстановки, и тихо ругалась. Или сидела у секретера в гостиной, склонившись над работой, просматривая банковские выписки, например, а когда она поднимала голову, лицо у нее было багровым от напряжения, и она доставала носовой платок, отирая пот со лба.
Альфред уехал в Париж. Уехал по настоянию матери, только по ее настоянию. Сам он не представлял, что ему там делать, за границей, в краю чужом. К тому же было немного страшно. Боялся он чужих улиц, которые представлялись ему извилистыми, словно незнакомые реки, домов, в которых протекала жизнь, ему совсем неизвестная.
В то же время он ощущал, что так дальше продолжаться не может, ни в его отношениях с Кларой, ни в его смятенном отношении к самому себе. Картину дополняло то обстоятельство, что он не имел представления, что делать с приобретенной в университете профессией.
Каждое лето Альфред участвовал в так называемых маршах мира. День памяти Хиросимы. И Клара ходила вместе с ним, хотя она, собственно, не выказывала никакого интереса или воодушевления по этому поводу. Марши эти организовывали совместно католики и коммунисты, и протест был направлен в первую очередь против арсеналов атомного оружия, против войны вообще.
Клара сегодня заметно нервничает, она в подавленном настроении, чуть ли не до слез. Она то неожиданно, без особого повода, обеими руками вцепляется в Альфреда, буквально висит на нем, то отстраняется, идет сама по себе, уставившись в одну точку. Коснувшись ее щеки губами, Альфред замечает, что ее бьет дрожь.
— Что с тобой, ты вся дрожишь!
— Мне страшно!
Альфред продолжает разговор с товарищами по демонстрации о марше, запланированном на следующий месяц в Мюнхене, нет, в Берлине, ну, в общем, в Германии. Будет ли он участвовать? На дворе прекрасный, замечательный воскресный день, и они проходят по центру города, по Херренгассе, по направлению к Михаэлерплац.
На площади Альфред вдруг обнаруживает, что Клара куда-то исчезла. Он прерывает разговор, пробивается сквозь толпу, работая обеими руками, толкает людей, чуть ли не сбивая их с ног: «Клара!» — кричит он во весь голос.
Михаэлерплац залита солнцем, на тротуаре выстроилась длинная цепочка сочувствующих и зевак; высокие стены домов, колонна заворачивает в широкий проезд, ведущий к Площади Героев, вокруг море людей — Альфред продолжает искать Клару.
Теперь он вспоминает об этом с большой неохотой. И очень редко. Когда, например, в трактире на Монпарнасе он немного перебирал с выпивкой, или когда в одиночестве прогуливался утром по Люксембургскому саду. Он записался в один из университетов Сорбонны, на юридический факультет, но на лекциях почти не появлялся.
В Лондоне, куда он перебрался через несколько месяцев, все обстояло примерно так же. И там он не обрел покоя и душевного равновесия. Сидя в пабе за кружкой пива, он читал письма, которые присылала ему мама. Больше ему никто не писал. Настоящие эпистолы! Перед ним буквально вставал образ матери, он видел, как она пишет письмо, лицо покрыто каплями пота, она откладывает авторучку, мокрой от пота рукой проводит по волосам.
Читать дальше