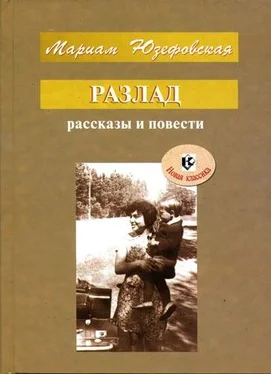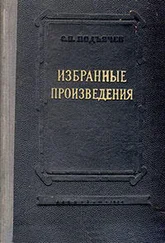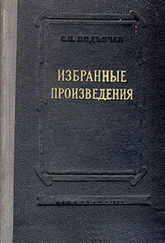Через два дня перенес мать в чуланчик. О чем только теперь не говорили. Благо одни. Ни чужих ушей, ни глаз. Дни длинные, а ночи еще длиннее. Часто вспоминали отца.
– Нет! Не скажи, Илья, он человеком был. А что Лилечку вначале не признал, так это от горя. Ревновал меня. Все, бывало, говорит мне: «Ты красивая!» А я уже вся седая. Худющая – страх! Помнишь, как он мне ногу кипятком ошпарил? Со зла. Так, бывало, все улягутся. Ночь. А он придет к нам за занавеску. Гладит меня. Жалеет. Плачет. Думал – сплю. А я подушку зубами сожму. Чтоб самой-то не разреветься. Ты не думай. Не только он во всем виноват. Я тоже была хороша птица. Нет чтоб приласкаться, пожалеть. Молчу, как каменная. Перед кем гордыню ломала? Он ведь душевный был. Лилечку, видишь, не признавал. А деньги на нее давал. И что достанет из продуктов, что пришлют с Украины – все делил поровну. «За сына», – говорил. А сам знал, что Лилечке. Думаешь, ему легко было? Иногда неделями уснуть не мог. Только задремлет, а здесь трамвай. Помнишь, стрелка около нас была? Пока не переведут, трезвонит и трезвонит.
Он вспомнил будку на углу. Толстую неповоротливую стрелочницу в фуфайке и сапогах. Железный рычаг с противовесом. Куда все подевалось? Сейчас и следа не осталось.
– И ведь все один и один, – продолжала мать тихим голосом. Когда-никогда ты с ним выйдешь на улицу. Для него это праздник был. А ты, дурачок, стеснялся. – Она умолкла. Задумалась. – А знаешь, мы ведь в году шестидесятом хорошо уже жить начали. Он как-то душой отошел. Смирился, наверно. Задумал летнюю душевую пристроить. Не успел. Ты-то ушел в армию. А ему в баню не с кем стало ходить. Помнишь, как вы в баню ходили?
Еще бы не помнить. Это был его крест. Каждую неделю со страхом ждал субботы. Зимой с утра включал радио. Висело у изголовья черной тарелкой. Если минус двадцать – в баню не шли. Мылись дома, в корыте. А так ходили. Еще с утра начинал канючить: «Пап, пошли в номера!» Отец твердо стоял на своем. «Нет. Дорого. И чего в номера идти? Стесняешься, что ли? Разве мы не такие, как все?» Не поворачивался язык сказать отцу правду. Стыдно было раздеваться на людях. Стеснялся белья своего. А еще больше отцовского. В латках. Где черной ниткой зашито. Где и вовсе драное. Шил отец сам. Наощупь. Мать ни к чему не подпускал. После бани покупал бублики. Горячие. Лиле и маме – с маком. Себе и сыну – простые. Просил самые поджаристые. «Видишь, и на баню хватило. И на бублики. Умей, сынок, по одежке протягивать ножки. А то всю жизнь за копейкой гоняться будешь».
К концу февраля мать уже не ходила. Совсем ослабела. Иногда даже стала заговариваться. Илью Ильича с мужем путать начала. Все ей кажется, что жив Илья-большой. Оправдывается перед ним. Ласкается. Илья Ильич раз прислушался. Неловко ему стало. Будто подглядывает за отцом с матерью. «А Ирина мне никогда не говорила так, – с горечью подумал он. – Даже в первые годы».
Потом вроде мать пришла в себя. Попросила, чтоб Лиля приехала:
– Поторопи ее. Попрощаться хочу.
– Ты что это панихиду затеяла? – подшучивал Илья Ильич. А сам давно уже торопил. С месяц. Но то сестра сама болела, то дети. Наконец твердо пообещала: «Приеду. И билеты уже взяты». Илья Ильич даже духом воспрял. Как раз у него отпуск кончался. Мать будет на кого оставить. Все не один. Хоть родная душа рядом. Ирина-то не больно мать вниманием баловала. Хорошо, если раз в неделю придет: «Ну как вы, Пелагея Фоминична?» Бутылку с соком на тумбочку поставит: «Поправляйтесь». И была такова. Один раз, правда, задержалась. Вызвала Илью Ильича в коридор. Посмотрела жалостливо:
– Что за вид у тебя? Рубашка мятая. Лицо землистое. Ты хоть на воздухе бываешь? Похудел-то как.
Илья Ильич промолчал. А что говорить? Ночью спал на стульях. Чуланчик узенький. Даже раскладушку не поставишь. Утром бегом за творожком, за сливками на базар. Может быть, мать хоть какую крошку, да съест. Днем только на часок домой и заскакивал. А то все в больнице. Ирина провела рукой по его щеке: «Небритый какой!»
У Ильи Ильича сердце ёкнуло. «Жалеет». Внезапно почувствовал, как истосковался. Прижал плечом к щеке ее ладонь. Она ласково улыбнулась: «Соскучился?» И вдруг обычным будничным тоном сказала:
– Ты мне денег дай!
Илья Ильич чуть не расплакался: «Вот из-за чего задержалась. Денег решила попросить». Но взял себя в руки. Спросил ровным, спокойным голосом:
– Тебе сколько надо?
– Рублей пятьдесят на питание. Потом Саше посылку послать. Ты ведь в этом месяце еще ни копейки на хозяйство не дал. Я уже у родителей одолжалась. Прямо неловко.
Читать дальше