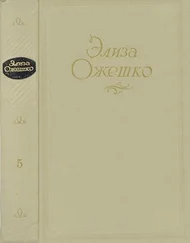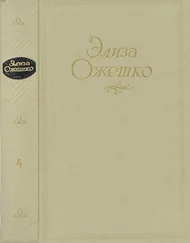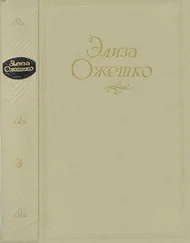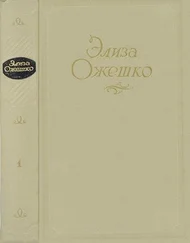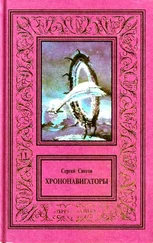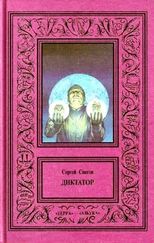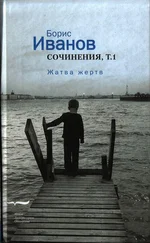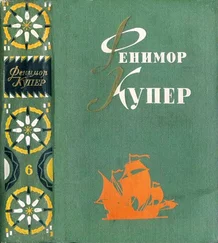Господин философ поднялся на помост, чтобы все его видели. На помост навели самые сильные прожекторы. Он объявил, сейчас сделает то, что не удалось сделать даже великому Колумбу: поставить яйцо на острый кончик, его не повредив.
Королевские трубачи в шляпах со страусовыми перьями сыграли сигнал: «Все — внимание!» Вся площадь затаила дыхание. Господин философ взял яйцо и одним быстрым движением заставил яйцо вращаться. И вот яйцо стоит, белое куриное яйцо, целое и невредимое, на самом-самом кончике. Оно вращалось так долго, что из него успел вылупиться крошечный цыпленок. Он пробил скорлупу и выглянул наружу. У него немного кружилась голова. Наверно, от счастья. Раздались бурные аплодисменты.
На помост поднялся главный остряк королевства. Он поднял палец и произнес остроту так, чтобы ее все услышали:
— А все-таки оно вертится!
Эту фразу вы можете прочесть в учебниках по физике, истории, философии и в других, если вообще существуют другие учебники.
Господин философ, который так запутал бедного министра финансов, по-прежнему утверждал, что ничего не знает, но при этом улыбался так, что его улыбку, как и упомянутую остроту, проходят в школе. «Попробуйте улыбнуться так, как этот господин, — говорит ученикам господин учитель, показывая на портрет философа. — Для этого нужно слегка приподнять голову, потом прикрыть веки так, чтобы на кончиках ресниц, если смотреть в сторону солнца, показались разноцветные мячики. А теперь — играйте, играйте этими мячиками, и вы научитесь улыбаться, как должен улыбаться каждый гражданин счастливого королевства!»
Маленький стекольщик не расставался в этот вечер с большим стекольщиком и с прекрасной танцовщицей. Рядом с ними была девочка с музыкальным слухом.
— Маленький стекольщик, — сказала Виола, — если мальчик любит девочку, он должен уметь это доказать.
— Мальчики всегда умеют это доказать, — сказал маленький стекольщик. — Для этого нужно хотя бы одно несказочное королевство.
ПО ТУ СТОРОНУ ОФИЦИАЛЬНОСТИ
Главы из книги
СВОЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ДОМЕ
Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф (Бродский. — Б.И. ) достал несколько листков папиросной бумаги:
— Прочти.
Я начал читать. Через минуту спросил:
— Как удалось это раздобыть?
— У нас есть свой человек в Большом доме. Одна девица копию сняла.
Сергей Довлатов. Невидимая книга
Пыль от хрущевских реформ еще висела в воздухе. Можно было верить, что в конце концов что-нибудь из них получится, можно было не верить и продолжать жить, как жили наши интеллигентные соплеменники уже не одно десятилетие: жизнь — это кинофильм в постановке «партии и правительства». Задача уважающего себя человека — иметь собственное мнение по поводу «кино». Кризис заключался не столько в том, что кинофильм вызывал все большее отвращение по мере того, как ожидаемое развенчание Сталина забуксовало, а в том, что образовались свои собственные, независимые, неподконтрольные мотивы жизни — независимые и неподконтрольные для самого себя. Словно оказываешься на чужой территории: рискованность положения не объясняется ни твоим любопытством, ни любовью к приключениям. Экзистенциализм уже научил объяснять эти состояния человека, называя их пограничными. Я мог бы сказать, что стал жертвой этих состояний, но любовь к судьбе, хотя и странная, это все-таки любовь.
В 1962 году я написал обширное эссе, радикально отрицающее советскую действительность, и рассказ «Похороны во вторник», в котором хоронил сам себя вместе с эпохой «бессознательного конформизма». Рассказ прочитал на литобъединении при издательстве «Советский писатель» [1] Назову имена некоторых членов объединения того периода: Андрей Битов, Сергей Вольф, Майя Данини, Олег Базунов, Инга Петкевич, Валерий Попов, Генрих Шефф. Публикации их вещей, написанных только за два-три года, растянулись на десятилетия; многое не увидело свет и по сей день. Собранная в одном издании, эта проза отчетливо продемонстрировала бы черты новой, тогда только еще зарождающейся литературы.
. Я не помню случая, чтобы чтение обходилось без обсуждения: на этот раз желающих выступить не нашлось. Все были подавлены мрачной историей — аргументированным самоубийством героя рассказа. Рид Грачев, которому «Похороны» были посвящены, отнесся к этому проявлению моей признательности как к бестактности. Впервые я встретился с таким буквалистическим отношением к сочиненному тексту. Но разве не о таком переживании своего произведения мечтает каждый писатель!
Читать дальше