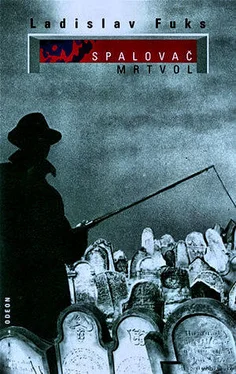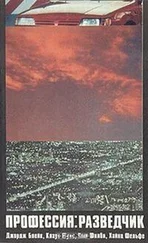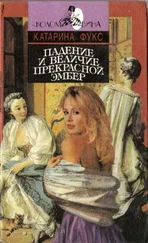Выходя из крематория, Копферкингель столкнулся с привратником Фенеком.
— Пан Копферкингель, — Фенек поднял на него слезящиеся добродушные глаза, и его голос дрогнул, — вы не забыли про морфий?
— Послушайте, — решил проявить твердость Копферкингель, — если вы не прекратите преследовать меня, я обращусь в полицию. Вам отлично известно, что морфинизм уголовно наказуем. Это порок, недостойный человека, и если вы не оставите меня в покое, я сдам вас в сумасшедший дом. — Он посмотрел на Фенека, который от страха едва держался на ногах, и тихо добавил: — Вы ничего не добьетесь от меня, пан Фенек, потому что я забочусь о вашем здоровье. Вам, очевидно, недостает ума, но зато он есть у меня. Я честный здоровый человек, непьющий и некурящий, и я вовсе не желаю брать из-за вас грех на душу. Оставьте меня в покое — раз и навсегда.
Пан Фенек, совершенно уничтоженный, скрылся в привратницкой. «А ведь верно, — подумал Копферкингель, очутившись на безлюдном дворе, — а ведь верно! Стоило мне продемонстрировать ему свою силу, как он испугался. Вилли прав. Сила и твердость — вот что спасет человечество! Ну, а слабые и неполноценные — это всего лишь обуза, они мешают нашей борьбе за завтрашний день».
Во второй привратницкой сидел пан Врана, у которого была больная печень, и Копферкингелю показалось, что тот не хочет смотреть на него…
Лакме была в столовой. Она стояла у окна под картиной со свадебной процессией и табличкой с расписанием поездов смерти, и муж улыбнулся ее черным волосам, ощутив мимолетный прилив жалости. Потом он заметил Мили, который торопливо прятал что-то за маленькое зеркало в столовой. Копферкингелю удалось разглядеть, что это была фотография, и он сказал себе: «Эге, а жизнь-то идет! Вот уже и Зинушка встречается со своим паном Милой, и даже тихоня Мили. м-да, дети растут, взрослеют.» Он подошел к радиоприемнику и включил его.
— Бедняга Фенек, — сообщил он, — ему опять нужен морфий. Он слабый, мягкотелый, конченый человек. почти сумасшедший. Кстати, хотел бы я знать, как поживает этот пьяница, пан Прахарж. у него еще сын есть, Войта. давненько мы с ними не встречались, почти год. — Из приемника полилась сладчайшая каватина Альмавивы из «Севильского цирюльника», которую граф распевал под балконом Розины. и пан Копферкингель направился к Мили, протягивая ему раскрытую ладонь. — Ну-ка, покажи мне свою любовь, свою первую любовь, мы тоже хотим взглянуть на нее. — Поколебавшись, Мили отдал отцу фотографию. Оказалось, что это была вовсе не девушка, а подручный мясника, боксер из молодежного клуба.
— Это подручный мясника, — Мили заикался и смотрел на кошку, — ну, тот боксер.
Копферкингель удивленно спросил:
— Где ты ее взял? Разве вы знакомы?
— Ты же сам послал меня за программкой, чтобы я знал, кто боксирует. — сказал Мили, а потом неохотно выдавил из себя, что дважды заходил в молодежный клуб и наблюдал за тренировками. — Там было написано, — объяснил Мили, — «приходите к нам». Ну, на том приглашении, что дал мне пан Рейнке.
— Я рад твоей дружбе с боксером, — чуть помедлив, произнес Копферкингель и подумал про себя, что такая дружба избавит подростка от изнеженности и слабохарактерности. — Ты, Мили, должен быть стойким и смелым, ведь в твоих жилах течет немецкая кровь. Моя кровь, — добавил он, сдвинув брови. — После каникул ты отправишься в немецкую гимназию. Да-да, — улыбнулся он опешившей и погрустневшей Лакме и вновь обратился к Мили: — Дружить с боксером — это, конечно, хорошо, бокс — боевой спорт, ein Wettkampf, недаром фюрер считает его одним из лучших видов спорта, но вот что, Мили: хватит тебе бродить невесть где. К мосту, пожалуй, тоже лучше не ходить. А этот твой друг тренируется прилежно? — Он вернул мальчику фотографию и, когда Мили кивнул, спросил: — А что он тебе рассказывает, о чем вы с ним говорите?
И он услышал ответ на свой вопрос. Он узнал, о чем говорят между собой два эти мальчика. Узнал, почему боксер так усиленно тренируется. Почему он так прилежен. Почему его удары должны непременно достигать цели. Потому что немцы вторглись в нашу страну. Потому что они насильники. Потому что они отняли у нас свободу. Говоря все это, Мили дрожал как овечий хвост и упорно смотрел на кошку, и пану Копферкингелю удалось превозмочь себя и промолчать. Он только скорбно покачал головой. «У меня есть еще время, чтобы открыть ему глаза, — думал он, глядя на Мили, — я все объясню ему, я уговорю его, я внушу ему верные мысли». И он направился к приемнику (Альмавива как раз заканчивал свою красивую арию) и легонько отпихнул кошку, метнувшуюся ему под ноги.
Читать дальше