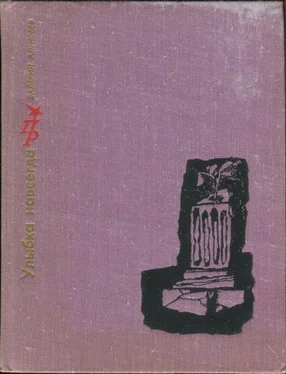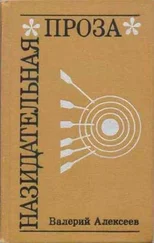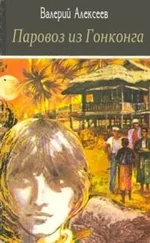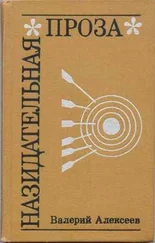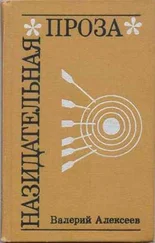— Что именно?
— Революция начнется, папа, — сказала Елени.
Георгис повернулся к ней, взглянул с насмешкой.
— А ты, девчонка… — начал он.
— Идти на кухню? — спросила Елени. — И сидеть там, пока не позовут?
— Вот-вот, — сказал Георгис. — Знай свое место.
Елени, вспыхнув, встала. Глаза ее наполнились слезами.
— Нет, ты не американец, папа, — проговорила она. — Ты турок. Самый настоящий турок.
— Елени! — грозно сказала Василики. — Забылась? Ну-ка пойдем, поговорим.
— Вот так, — произнес Георгис и взглянул на сына. — А теперь — как мужчина с мужчиной. Без лишней сырости. Ты что, мой милый, не в коммунисты ли подался?
— В коммунисты, отец, — глядя ему в глаза, ответил Никос.
— А знаешь ли ты, что их, как бешеных собак, по всему свету гоняют?
— Знаю. Только не как бешеных собак. Как первых христиан, это тебе будет понятнее.
— Ладно, пусть как первых христиан. А вот сейчас все кругом христиане — и полицейские, и министры, и жулики. А стало ли лучше народу? Не стало. Не будет ли так и с вами, с коммунистами?
— Не будет, отец.
— Это почему же?
— Да потому, что мы царствия небесного не обещаем. У нас все дела наши здесь, на земле. И судить нас будут по делам нашим здесь, на земле.
Отец помолчал, закурил трубку.
— Вот мне бы выпороть тебя сейчас, — сказал он наконец. — Другой бы так и сделал. А я не стану. Чужие бьют, свои бить станут — совсем ожесточишься. Ты поумней меня, я чувствую. Сам разберешься.
— Уже разобрался, отец.
— Ох рановато. Я доживаю уж, а не могу этим похвастаться.
— Тебе никто не помог, а мне помогли.
— Кто же это постарался?
— Хорошие люди, отец.
— И много их, хороших?
— Здесь, в Амальяде, или по всей Греции?
— Да хоть по всей Греции.
— Тысяч пять, я полагаю, — подумав, сказал Никос. — Из них тысячи две в тюрьмах. Немного, конечно…
— Да уж немного, — хмуро проговорил отец.
*
Лишь через несколько лет Никос с запоздалым стыдом понял, что был тогда несправедлив к отцу. Он только удивлялся, почему отец, обычно крутой и в гневе буйный, разговаривает с ним так миролюбиво. По мальчишеской самоуверенности относил это на счет убедительности и мужественной твердости своих слов (мол, понял отец, что его не сломить). А вот хотел ли он сломить его тогда?
Нет, не хотел. Чего же искал он в этом разговоре с безусым еще мальчишкой? Чего он ждал тогда от Никоса? Медлил, вертел в руках трубочку… Чего он ждал? Чтобы Никос объяснил ему то, чего он за всю свою жизнь не понял? А мог ли это сделать Никос при своей тогдашней юношеской наивности?
Отец понял, что не дождется, и отступился на время. А потом у Никоса и нашлись бы слова и доводы (стал старше, закалился в борьбе), да времени не оставалось для разговоров.
К тому же и удобнее было думать, что отец погряз в делах своих, в собственности… Больно вспоминать: стыдился, что отец ездил на заработки в Америку (как будто позор какой — от бедности искать доли) и что вернулся с деньгами (считал каждый цент, голодал, ютился в ночлежках — разве это позор?), и что держал гостиницу, с которой даже в худшие времена имел твердый доход. А не на этот ли доход Никос окончил гимназию и два года учился в Афипском университете?
Даже студентом юридического факультета он втайне досадовал на свое непролетарское происхождение, и эта ребяческая досада выражалась в том, что он писал отцу сухие письма, не подозревая, что каждое письмо было для отца праздником и источником огорчения. Сравнивая слова, которые сын находил для него, с теми, которые он писал матери и сестренке, Георгис притворно негодовал: ну, где уж мне, американцу, сподобиться такой чести — получить анализ политобстановки, разве я пойму? Но за этим скрывалась горечь.
Исключение Никоса из университета было потрясением для мамы, которая мечтала о том, что сын станет адвокатом (и, но ее тайному разумению, неуязвимым для закона человеком: ибо кто слышал о том, чтобы судили адвоката?), а отец отнесся к исключению много спокойнее: для него это было лишним доказательством последовательности сына, которой он ждал (кто же станет терпеть в университете коммуниста?).
Теперь-то Никос знает, что отец гордился им, но гордился по-мужски, по-стариковски, тайно, это была гордость, смешанная с болью. Не нашлось у них с сыном общего языка. И отец скрывал свою обиду за стариковской воркотней, за брюзжанием: «Так ведь можно и до девяноста лет мыкаться по свету без угла, без семьи, без хозяйства, все учить уму-разуму других, когда сам не имеешь ни ума, ни разума…»
Читать дальше