Разговаривая, дядя Кюхейлан активно жестикулировал: то расчесывал руками воздух, то выставлял вперед два пальца, словно держал в них воображаемую папиросу.
– По вечерам отец при свете газовой лампы устраивал на стене театр теней, изображал своими ловкими пальцами целые города. Так он повествовал и о Стамбуле. Сначала показывал нам длинные пароходы, затем еще более длинные поезда, а потом на стене появлялась тень молодого человека, стоящего под деревом. Когда отец спрашивал, кого ждет этот юноша, мы все в один голос отвечали: свою возлюбленную! Но отец, желая нас позлить, сажал юношу в тюрьму или заводил в воровской притон и лишь потом, когда мы теряли всякую надежду, устраивал ему встречу с любимой. Стамбул очень велик, твердил он, там за каждой стеной – своя жизнь, за каждой жизнью – своя стена. Он, Стамбул, словно колодец: глубокий, но тесный. Одних пьянит его глубина, других душит теснота. Потом отец поворачивался к нам и говорил: «Я расскажу вам о том Стамбуле, который видел собственными глазами». И он рассказывал, одновременно создавая на стене картины, и его рассказ уносил нас из нашего маленького домика в неведомый город, рождаемый тенями и становящийся огромным, как ночь. Я вырос на этих рассказах, Доктор. Эти стены, дверь и темный потолок мне хорошо знакомы, мой отец говорил именно об этом месте.
– Ты здесь только первый день, дядя Кюхейлан. Не торопись с выводами, подожди немного.
– Доктор, когда ты говорил, я чувствовал себя так, словно давно уже здесь. Сейчас день или ночь?
– Не знаю. О том, что наступило утро, мы узнаем, когда приносят еду.
Обычно по ночам следователи отправлялись на улицу, на задания, охотились на свою добычу. Это было единственное время, когда мы могли поспать и вообще немного расслабиться. Впрочем, какого-то прочно устоявшегося, единого для всех распорядка здесь не водилось. Бывало и так, что кого-то пытали круглые сутки, не возвращая в камеру, как меня первые пять дней.
– Интересно, что нам сегодня дадут поесть, – сказал я.
– А что, здесь по-разному кормят?
– Да, хлеб и сыр каждый день разные. Хлеб иногда просто черствый, а иногда очень черствый. Сыр то плесневелый, то откровенно гнилой. Повар каждый раз балует нас чем-нибудь новеньким.
Дядя Кюхейлан улыбнулся. Он уже два часа сидел на корточках, прислонившись спиной к стене. Следы побоев на его лице распухли, посинели. Только глаза поблескивали. Он поправил наброшенный на плечи пиджак и спросил замершего у прорези Демиртая:
– Никто не идет?
Демиртай обернулся, опустился на пол там же, где стоял, и уныло помотал головой:
– Когда пойдут, мы услышим скрип железной двери.
– Девушка ничего не сказала, когда ее уводили?
– Даже рта не раскрыла.
Девушку из противоположной камеры увели, когда дядя Кюхейлан еще лежал. Тот переживал за нее и расспрашивал о ней Демиртая.
Дядю Кюхейлана две недели пытали в армейской части, а затем отправили в долгий путь, который привел его в нашу камеру. Вместе с ним ехали четыре вооруженных охранника и девушка, на которую, как и на него, надели наручники. Из перешептываний охранников дядя Кюхейлан узнал, что в путь они отправились уже давно и девушку везут издалека. Сама девушка за всю дорогу не сказала ни слова, даже не шевельнула окровавленными губами. На остановках им давали хлеб, но она не ела, только пила воду. Дядя Кюхейлан рассказывал ей о себе и о своей деревне, она молча слушала. «Я верю, что ты никому не расскажешь, слишком уж ты молчаливая», – сказал он ей, и она, бросив на него быстрый взгляд, кивнула. Они, два впервые увидевших друг друга человека, двигались по пути, началом и концом которого была тьма, и доверяли друг другу, потому что на берегу океана боли время течет иначе.
– Своего имени она тебе тоже не сказала? – спросил дядя Кюхейлан.
– Сказала, – ответил Демиртай. – Точнее, написала.
– И что же она написала?
– Зине Севда.
– Зине Севда… – повторил дядя Кюхейлан. Его лицо просветлело. – Интересно, она немая? Может быть, нет, просто решила молчать, пока под арестом. С тобой она разговаривала, чертя буквы в воздухе. Почему же в дороге она мне не отвечала таким же способом? Потому что рядом были охранники?
Дядя Кюхейлан поднес воображаемую папиросу ко рту и сделал глубокий вдох. Потом выдохнул воображаемый дым и прислонился затылком к стене. Долго смотрел в пустоту, затем обвел взглядом темный потолок, снова поднес пальцы к губам, сделал вдох и посмотрел на меня. Мы встретились глазами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


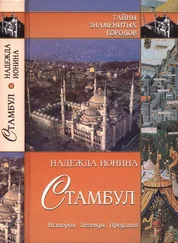

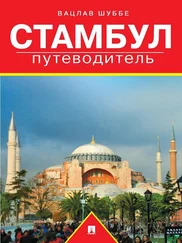

![Эсмира Исмаилова - На берегах Босфора [Стамбул в рецептах, историях и криках чаек] [litres]](/books/384961/esmira-ismailova-na-beregah-bosfora-stambul-v-rec-thumb.webp)





