— Правом ведают люди, очень часто те же люди, которые тогда, по приказу, отстаивали несправедливость.
— У вас крайне односторонняя точка зрения.
— Верно. У меня и может быть только одна точка зрения — точка зрения жертв. Верьте мне, эта позиция очень обостряет зрение.
Мы стояли у стола друг против друга, обитатели разных миров. Переживания, мысли, взгляды — все у нас было разное, возможно, даже противоположное. Он выпрямился, в голосе его зазвучали решительные ноты:
— Короче говоря, пока существует правосудие, обвинения как такового для приговора недостаточно.
— Но всего этого вполне достаточно, чтобы вынести приговор правосудию, — в бешенстве выкрикнул я.
Он перегнулся через стол, оперся на него обеими руками и, выдвинув нижнюю челюсть, произнес с оттенком угрозы в голосе:
— Выслушайте меня внимательно, господин Брендель: если этот самый Пауль Ридель внезапно умрет, случайно, разумеется, знайте, перед вами у стола стоит человек, который понимает, что здесь имело место убийство.
— Этот человек — вы?
— Да, я. Я вас предостерегаю, и помните: в вопросах правосудия я шутить не люблю.
— Я тоже, господин адвокат, я тоже…
— Вот вам мое последнее слово, господин Брендель. Достаньте свидетеля, иначе я решительно прекращаю…
Но я уже не слушал. Я убежал из его кабинета. Я был глубоко потрясен тем, что выкрикнул в пылу спора. Как? Я намерен уничтожить убийцу? Я — своими руками? Что за дерзновенная мысль! А святость человеческой жизни? Святость жизни существует в благочестивых книжках, но отнюдь не в запятнанной кровью действительности. Те времена научили меня, что жизнь большей части людей гроша ломаного не стоит. Да, конечно — на фронте, в концлагере, в городе во время бомбежки, в лагере для военнопленных! Но ведь здесь-то, сейчас тоже фронт, оставшийся от фронта котел, в котором мы сидим — он и я, уставясь друг на друга с первобытной ненавистью. Ридель должен умереть, но что его убьет? Выстрел, нож, несчастный случай? Да, преднамеренный несчастный случай. Эта мысль не покидала меня с тех пор и до настоящей минуты, когда я сижу за рулем машины…
Кстати, поиски мои увенчались успехом. Я нашел того, кто судил нас. Я нашел К., бывшего председателя суда. Организация лиц, преследовавшихся при нацизме, собрала о нем подробные сведения.
Я держал в руках листок из картотеки и тщательно изучал его. Карьера обычная: референдарий, штурмовик, затем перешел в нацистский автомобильный корпус, асессор, судья, член военного суда, после войны, как сочувствующий, зачислен в ведомство юстиции, ныне член земельного суда в М., недалеко отсюда.
Я поехал в М. В здании суда я долго блуждал по коридорам, разыскивая зал, в котором вновь думал увидеть К. за судейским столом.
Наконец мне сказали, что обычно он председательствует в зале заседаний номер три. Я потихоньку приоткрыл дверь с дощечкой «для публики» и вошел. В голом, грязно-зеленом помещении почти не было народа. Перед скамьей подсудимых стоял низенький круглоголовый человечек с физиономией карлика и непрерывно говорил. Судья время от времени вставлял короткие вопросы. Это был не К.
Оказалось, что я пришел слишком рано. Что ж, можно подождать. Я столько уже ждал, что отвык от нетерпения. Когда я очутился среди публики, той своеобразной категории людей, которые наводняют залы суда, чтобы насладиться зрелищем преступников, чужого отчаяния, гнева и слез, когда я очутился среди этих женщин с холодными глазами и хмурых мужчин, я вспомнил, с какой огромной терпимостью, с какой снисходительной добротой относятся многие нынешние судьи к преступным деяниям недавней диктатуры и как редко карают их.
Здесь разбиралось не политическое дело. Речь, по-видимому, шла об убийстве. Во всяком случае, во время короткой перепалки с подсудимыми это слово употребил прокурор, укрывший свое злобное детское личико за массивными роговыми очками. Но подсудимый твердил свое. Низенький, седой, стоял он перед судейским столом. Физиономия карлика непрерывно и неожиданно меняла выражение. Лихорадочная патетическая жестикуляция сопровождала его защитительную речь. Тоненьким слабым голоском обращался он к судье, точно строчил на швейной машинке, а судья внимательно изучал его, не прервав ни разу, как и все остальные участники, видимо растроганные бесхитростным рассказом о горестной человеческой судьбе. Подсудимый сделал театральный жест и энергично потряс головой:
— Нет, нет, господин судья, совсем это было не так… Да и нож на кухонном столе я увидел за секунду до того, как его всадить. Все остальное — выдумка. Ведь показывает же вам направление удара, что лезвие вонзилось справа вверх… И он не вымолвил больше ни слова. Просто лежал у моих ног, а они все отстали от меня, подхватили его и понесли, и уж только когда дверь закрылась, я услышал, как они там топочут и галдят. А я вдруг остался в кухне совсем один и услышал, как кто-то ужасно тяжело дышит. Оказалось — это я сам. А нож для хлеба был совсем чистый, только у черенка чуть вымазан красным, самую чуточку. Я, помнится, еще подумал: все это враки насчет крови, которая стекает с ножа, враки из романов. Я подставил его под кран и ждал, чтобы пришла Анна. Я крикнул: «Анна… Анна…» — а она все не шла. Наверно, за туфлями побежала, подумал я. Откуда мне тогда было знать, что все меня предали — и Шмидтман и остальные. И вдруг, когда я держал нож под краном, мне стало очень страшно, я и закричал: «Анна… Анна…»
Читать дальше
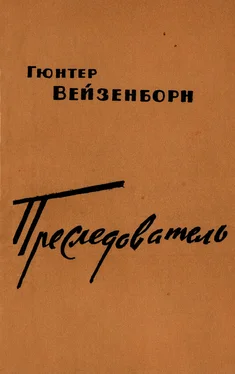

![Лотар-Гюнтер Буххайм - Подлодка [Лодка]](/books/6738/lotar-gyunter-buhhajm-podlodka-lodka-thumb.webp)






