Кто сам не побывал в таком положении, не может даже вообразить себе наш ужас. Все ясно, сомнений больше нет. Пауль действительно шпик.
Мы смотрели на дверь, за которой он был заперт. Мы долго совещались и не расходились до самого утра. Должен сознаться: мы самым серьезным образом обсуждали вопрос, не убить ли его. Он или мы. Иного выбора теперь не было. А нас было пятеро. Каждый командир на фронте предпочел бы пожертвовать одним солдатом вместо пятерых. Это был аргумент Пелле. Но к утру мы приняли другое решение. Перед уходом мы отперли дверь. Он лежал в старом кресле и спал. Он много выпил, да и таблетки оказали свое действие. Тяжелые пепельно-серые веки были плотно сомкнуты, рот приоткрылся во сне, и ярко краснели толстые губы. Он слегка похрапывал. Мы недоверчиво всматривались, спит ли он. Но веки не дрожали. Расслабленное тело безвольно покоилось в старом плетеном кресле. Мы вышли. Вальтер снова запер дверь и оглядел нас:
— Он проспит часа два-три. Да и после этого он не сразу подымет на ноги полицию. Значит, у нас есть время часов до шести. К семи каждый из нас должен покинуть свою квартиру и скрыться.
Мюке собирался выхлопотать разрешение на выезд и отправиться к родителям, но Пелле отговорил его. Никому из нас не следует ехать туда, где его будут искать. Ни к матери, ни к невесте, ни к приятелю… «Серебряная шестерка» должна в ближайшие часы рассеяться, как дым по ветру. Для каждого из нас это был вопрос жизни и смерти.
Приблизительно так выразился Вальтер, как всегда взявший на себя руководство. Я втайне восхищался его собранностью и уверенностью. У Пелле я чувствовал скрытое отчаяние, Мюке — бессильную ярость. Сам я был взвинчен до предела. А Вальтер был бледен и невозмутим.
Когда мы собрались уходить, он нас удержал.
— Вы не забыли самого важного? — спросил он.
Мы растерянно переглядывались. Невысокий, коренастый и какой-то обособленный стоял он посреди освещенного подвала и покачивал головой.
Потом пошел в чулан и немного погодя возвратился с пачкой листовок, лишь вчера нами отпечатанных. Он положил листовки в папку и взял их с собой.
Потом мы коротко попрощались. Никто из нас не знал, встретимся ли мы когда-нибудь. Мы и не встретились. Только Вальтера я увидел еще раз.
Когда мы вышли на темную улицу, сыпал снег. Было очень, очень тихо.
— Ступай сейчас же к Еве. Все приготовьте и сложите, Я скоро заеду за вами, — сказал мне Вальтер.
— А как же инструменты?
— Нам они больше не нужны. С музыкой покончено.
Я вспомнил, как чудесно он солировал на своей серебристой трубе. Он был прав, инструменты могли нас выдать.
Мы расстались.
Я один пошел по улице. Больше не было слышно ничьих шагов…
7.Три часа тридцать минут
Теперь уж он не приедет. Нечего и надеяться. Я жду понапрасну. Мне холодно. А вдруг он еще приедет? Может, он заигрался в карты с собутыльником или заночевал где-нибудь в другом месте?
Не так давно я узнал, что мой сотоварищ по заключению, учитель, проживает в ближнем городке. Я подождал его и встретил у выхода из школы. Мы выпили по чашке кофе на террасе ресторана в центре городка. Ветер трепал пестрые скатерти. Где-то пробили башенные часы. Перед террасой резвились дети.
— Вот детей… детей мне очень жалко, — промолвил Вернер, когда мы вкратце рассказали друг другу, как сложились наши судьбы. Вернер, будучи политическим заключенным, в ту пору не раз с холодным спокойствием давал отпор тюремщикам. Теперь он был болен и удручен. Долгое время он сражался за справедливость в таком же деле, как у меня, и потерпел поражение.
— Правосудия добиться невозможно, — утверждал он. — Когда арестуют невиновного, сам он защищать себя не в состоянии. В лучшем случае ему выдадут лист писчей бумаги. А адвокату в лучшем случае позволят заглянуть в дело. Друзья на воле пальцем не пошевелят, считая, что предосудительно вмешиваться «в ходе следствия». А после того, как вынесен приговор, хлопотать уже поздно. Сам видишь, механизм налажен великолепно.
— Значит, в ходе следствия в дело вмешиваться нельзя?
— Иногда даже необходимо. — Он допил кофе. Его пепельные с проседью волосы развевались на ветру. Я смотрел на него: лицо сохранило благородство черт, но как-то огрубело. Годы наложили свой отпечаток, а горечь обиды стянула его в бескровный кулачок. Бледный, немощный сидел передо мной тот, кто когда-то за решеткой показывал пример твердой как алмаз веры в победу. Голову он все еще держал гордо, но ему грозила опасность захлебнуться в тоске. Разочарование все равно что свинцовое грузило.
Читать дальше
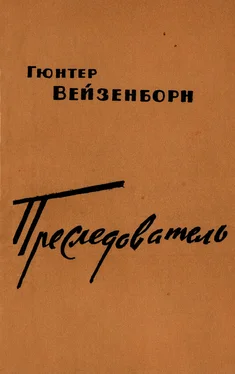

![Лотар-Гюнтер Буххайм - Подлодка [Лодка]](/books/6738/lotar-gyunter-buhhajm-podlodka-lodka-thumb.webp)






