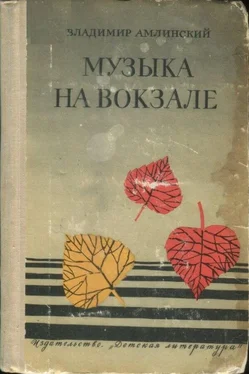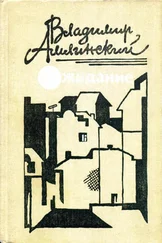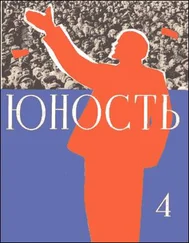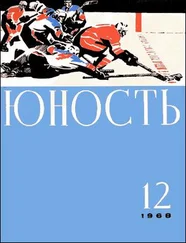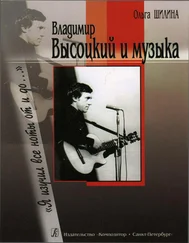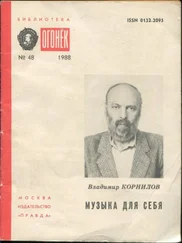Наконец он вытащил какую-то жестко хрустящую бумагу, бережно ее разгладил и, торжествуя, поднес к моим глазам. Это была Почетная грамота министерства.
— Понял? — вроде бы шутя, иронизируя, но в сущности совершенно серьезно сказал он. — Золотом по белому мою фамилию пишут. На том стоим.
Он с детства обожал всякие призы, грамоты, и для него было бы настоящим горем потерять эту нарядную расписную бумагу.
Мы вышли из тоннеля на перрон. Поезда еще не подали. Прихлопнутый стеклянным колпаком, весь вокзал с его пыльными высокими пальмами в кадках, снующими людьми, с шумно мчащимися автотележками казался мне странным гигантским аквариумом.
— И много ты успел в Москве? — спросил я Сашку.
— Эх, ты бы знал, сколько я не успел! Сколько еще не доделано.
Он как-то сразу озаботился, постарел и словно ушел далеко-далеко от меня, к своим делам, к своим строительным участкам… Все-таки, как ни крути, а он хозяин.
— Ну ладно, все утрясется, — успокоил я его.
Он шел стремительно, видимо по привычке, чуть вихляясь под тяжестью чемодана, в какой-то пижонистой, но не очень идущей ему светлой курточке, шел резкой, сильной походкой человека, привыкшего, чтобы ему давали дорогу. Но, несмотря на это, почему-то он казался мне растерянным и маленьким, а чемодан, который он нес, непомерно большим. Это было как в детстве. В детстве он иногда представлялся мне моим младшим братом. И я любил его опекать. Когда перед началом матча на стадионе «Динамо» закипала толпа, а мы рвались к голубому окошку кассы и слышали хруст собственных костей, я пропускал Сашку вперед и брал в кольцо своих рук… Я занимаюсь самбо, я выше Сашки на 15 сантиметров и на восемь месяцев старше.
— А ну-ка дай чемодан, начальник, — сказал я и почти силой вырвал из его рук громоздкий, ободранный чемодан. — Барахла накупил, что ли?
— Чучело… Покрышек футбольных пять штук, три комплекта пинг-понга, секундомеры и еще кое-что для заводских ребят… У нас со спортом плохо…
Он говорил, а я думал о том, что вот был у меня друг, жил под боком, вместе бродили по Чистым прудам, и вдруг сорвался с места, живет у черта на рогах, приезжает раз в три года, накупает всякую ерунду, носится по учреждениям, а мне остается только удивляться его выдумкам и таскать за ним чемодан на вокзал.
— Ну, как она, твоя Средняя Азия? — спросил я. — Действительно средняя?
— Нет, — сказал он и улыбнулся. — Для меня она не средняя. Для меня она самая хорошая Азия!
— Ну так расскажи об этой своей распрекрасной стране. Представляю, сколько килограммов экзотики ты припас для меня, сколько небылиц напридумывал бессонными ночами. Так облегчи же душу, расскажи!
— Ладно… Успется. Еще сорок минут до отхода.
И вдруг он быстро, испытующе посмотрел на меня, точно я что-то затаил, скрыл от него.
— А Лена придет на вокзал?
«Вряд ли», — хотел я ответить ему.
Ссутулясь, как-то сжавшись, он ждал, что я скажу ему: «Придет».
— Откуда я знаю, Сашка… — сказал я. — Если будет свободна, придет. Я предупредил ее. Она ведь надежный товарищ.
И тогда он посмотрел на меня с сожалением и превосходством, улыбнулся, показал свои белые нахальные зубы и, передразнив меня, прогнусавил:
— «Не знаю, не знаю»!.. — И добавил уверенно, может быть, даже слишком уверенно: — А я вот знаю: придет!
«Поезд номер восемнадцать прибывает на четвертый путь! — жестяным, угрожающим голосом произнес радиодиктор. — Просьба приготовиться к посадке».
…Средняя Азия вошла в Сашкину жизнь внезапно и странно. В то время мы учились, кажется, в восьмом классе. Географию у нас вела тихая, сдержанная, но очень педантичная и требовательная преподавательница — Нина Петровна Фомичева.
Грех оставить преподавательницу географии без прозвища, когда так много звучных и смешных названий рассыпано на широкой, как простыня, простеганной белыми нитками карте.
За Ниной Петровной не было определенного прозвища — то ее звали Панама, то Остров Борнео, но чаще всего тетя Лима или Лима Петровна в честь пройденной нами столицы Перу — города Лимы.
Это было, в сущности, нежное прозвище, может быть, даже слишком нежное для этой аккуратной, чрезвычайно вежливой, звавшей всегда нас на «вы», но весьма крутой в своих оценках учительницы. Она ставила двойки, не выговаривая нам, не нервничая. Она делала это как-то печально и даже торжественно, точно хороня нас. На лице ее в эти минуты было выражение какой-то нездешней грусти. Потому что в жизнь входили никчемные, пустые люди, которые не могли разобраться в каких-то несчастных пяти частях света.
Читать дальше