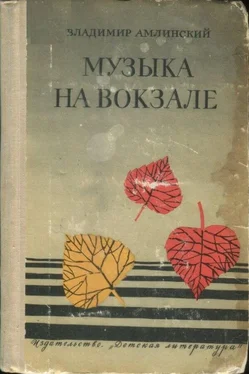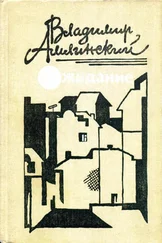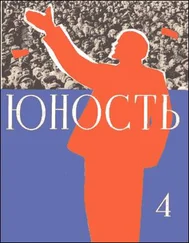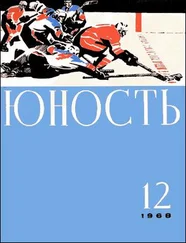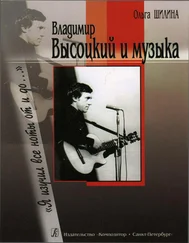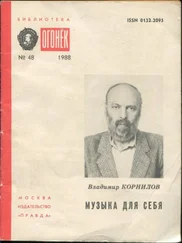Я молчу.
«А может, ты мне сыграешь?» — говорит…
«Охота была».
«Ну ладно, тогда я тебе сыграю».
Хотел я его послать туда-сюда, так как полагал, что он выпивши, но нет, пошел я за ним в номер, а в номере у него в углу — рояль. Как он первый аккорд взял, я весь замер. Тут-то я и понял, в чем дело. А когда он кончил, так я и слова не мог вымолвить. По радио я такой игры не слышал. И все по-другому, чем я, совершенно по-другому. Весь смысл у его был другой. А о звуке я уж не говорю. Звук у него был мощный, как гром. Мощный и чистый, что и не поймешь, откуда он рождается и как он держится в воздухе… А руки… В два раза меньше моих, но насколько сильнее, насколько сильнее! Посмотрел я на свои грабки и думаю: надо, брат, не в консерваторию идти, а булыжники таскать.
Кончил он играть и говорит: «Я тебя вчера слушал, слух у тебя отличный, инструмент ты чувствуешь, но, конечно, все это, брат, пока так… Сыровато. Здесь серединкой-половинкой не обойдешься. Если хочешь всерьез заниматься, бросай все, уезжай из своей деревни, поступай в училище».
Хотел я у него спросить адрес, да и сам он вроде предлагал, чего-то он мне объяснял, но я вроде бы пьяный был, только об игре думал и слышал ее, и адреса не взял я и ушел от него.
А наутро заключительный день смотра. Ребята идут хорошо, среди первых. Вот и моя очередь. Называют мою фамилию, то да се, из рыбацкой семьи, талант-самоучка, пятое-десятое. Я выхожу, сажусь, руки у меня горят, а внутри холодок: ну, думаю, прости господи, сейчас я дам, как никогда в жизни. Помню я, как вчера он играл, все помню, каждый оттенок, каждый звук и так же начинаю. Так же начинаю, как и он, точно так же… А играть не могу. Помню, как он играл, а не могу. Не могу по его играть. Тогда начинаю играть, как до него. Как раньше. Как на репетициях. И слушаю себя и не верю: так это грубо, жестко… И стало мне противно. Тут уж я себя и не помню.
Только помню, что встал, закрыл крышку. Да, крышку закрыл и стою… А в зале шум, движение, никто ничего не поймет. А я вроде иду по сцене и почему-то не внутрь за кулисы, а прямо в зал.
Кто-то говорит: «Может, он заболел?»
Руководитель наш Кофанов подходит ко мне, говорит:
«Что с тобой? Ты же вчера отлично играл!..»
Я молчу. Еще ко мне подходят разные. Все такие участливые. Один говорит: «Это он впечатлительный, нервный».
Другой: «У него дедушка умер недавно».
А кто-то из наших ребят шепчет другому про меня:
«Чокнутый».
Тем все оно и кончилось. Целый вечер бродил я по Одессе, бродил, и сидел на набережной, и все думал, думал: а как же дальше? И сначала очень мне плохо было. Очень плохо. А потом отчего-то стало хорошо, и я подумал: ну, не буду я играть — музыка-то не исчезнет. Послушать ее я всегда смогу. Пришел я поздно в гостиницу и не пошел туда, где наши жили, в общежитие, а прямо на третий этаж, в номер «Люкс» к рыжему пианисту. Пришел, а дверь у него заперта, и горничная говорит: «Уехал товарищ в город Москву выступать и давать концерты». А потом кончился этот самый конкурс, нас всех погрузили, и мы поехали…
Он кончил свой рассказ, посмотрел на меня устало, опустошенно. Странная у него была физиономия: большая, грубая, темная, а глаза маленькие, яркие и тревожные.
— Ну и что ты решил? — спросил я. — Играть будешь?
— Не знаю, — сказал он.
Я хотел ему посоветовать работать над собой, никогда не отказываться от начатого дела, но не стал… Еще я хотел ему посоветовать, чтобы он влюбился в — пацанку, но потом решил, что это лекарство принимать ему еще рано, а кроме того, оно обладает иногда самым неожиданным действием. Что еще я мог сказать ему?..
— Спи. Самое лучшее сейчас — это спать.
— У меня бессонница, — сказал он.
— Ну тогда подумай о чем-нибудь хорошем. У тебя есть что-нибудь хорошее?
Он задумался, потом кивнул:
— Есть.
Мне хотелось узнать, что это, но я не спросил, потому что у каждого человека есть свое хорошее и не обязательно рассказывать об этом другим.
— Ну тогда все в порядке.
И я закрыл глаза. Приятная светлая тяжесть начинающегося сна легла на мои плечи. Наступал тот момент, когда мне положено было засыпать… Через два часа капитан-бригадир разбудит меня на утренний лов.
Я проснулся от сильного и долгого гудка. Теплоход вошел в дельту Дуная. Он подходил к пристани Вилково.
Я посмотрел: вторая койка была пуста. Я отдернул шторы — его не было видно. Возможно, он уже приготовился сойти и ждал трапа, а может, еще бродил по палубам, праздновал свою первую бессонницу и видел странные, далекие, ночные огни, которые не разглядишь простым глазом.
Читать дальше