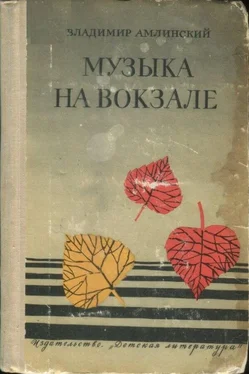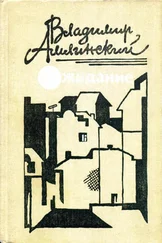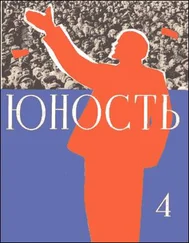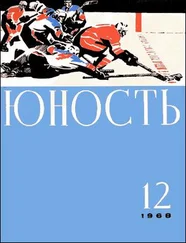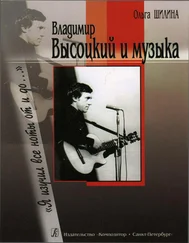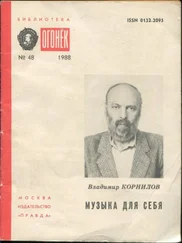Фигура его метнулась над зубчатой гранью забора, треснула материя — то рвалась Гришкина новая рубашка, — резко и как-то беспомощно взмахнули его сильные руки — и он исчез.
Дачный сезон кончился.
На узеньких, заросших улочках появились глубокие шрамы от колес грузовиков. Все разъезжались. Дачи забивали. Внезапно ослепшим, заколоченным окнам уже не грозил шальной удар футбольного мяча. Каникулы прошли.
В эти дни я праздновал день своего рождения. Мне подарили часы. Узенькие немецкие часики. Их прочность никто не обеспечивал. Они были негарантийные. И поэтому я со страхом и удивлением прислушивался к их тихому младенческому голоску, который, как мне показалось, звучал из последних сил и вот-вот должен был прерваться. Но он не прерывался, и я был горд за этот хрупкий организм, который все-таки работал, несмотря на кажущуюся непрочность.
Мать Инны уехала с дачи, а сама она задержалась на день, специально, чтобы прийти на день моего рождения. В тот же вечер она должна была уехать в город.
Инна пришла ко мне в светло-сером костюме, который плотно облегал ее фигуру. От нее слабо пахло духами, волосы были уложены короной, и мне она казалась очень взрослой, очень независимой и немного чужой, как в день нашего знакомства.
В первый момент, когда она пришла, мне стало даже неловко называть ее на «ты», и я старался обходиться без местоимений. Она протянула мне какой-то сверток. Я поблагодарил ее и сделал вид, что меня вовсе не интересует содержимое свертка. В серую зернистую оберточную бумагу было завернуто что-то плоское. Это могла быть либо книга, либо коробка конфет. «Только бы не конфеты, — думал я. — Ведь на коробке конфет не делают надписей».
Я на минуточку убежал, торопливо сорвал бумагу и запрыгал от радости. Это была книга. Это был серый коленкоровый Джек Лондон. Избранное. Но пусть это была даже «Муха-Цокотуха». Неважно. Главное — надпись. Надпись от Инны.
Я с некоторым страхом перевернул обложку и увидел написанное круглым, старательным почерком на подлинованной бумаге:
«В день рождения и в память дачно-волейбольной дружбы. Инна».
Эта фраза расстроила меня. Значит, наша дружба была только «дачно-волейбольной».
Поздно вечером Инна должна была ехать в Москву. Ее хотел проводить мой отец. В такое позднее время меня боялись отпустить на станцию. Станция была довольно далеко, и в те первые послевоенные годы в нашем глухом поселке нередко совершались грабежи. Я взял с собой большой перочинный нож на всякий случай. Мы ушли тихо, ничего никому не говоря.
Мне хотелось взять Инну под руку, но я не решался. Я говорил себе: «Вот дойду до того забора и возьму». Но когда мы доходили «до того» забора, рука моя цепенела.
Мы молчали. Вдруг Инна сказала:
— А жаль все-таки, что Гришка не пришел.
— Жаль, — ответил я.
Мне было действительно жаль, что Гришки не было у меня на дне рождения, но сейчас мне не хотелось думать ни о Гришке, ни о ком другом. Мне хотелось думать только об Инне. Я с внезапной, пронзившей меня остротой понял, что, быть может, вижу ее в последний раз.
— Мы ведь увидимся с тобой в Москве, Инна? — сказал я неуверенно.
— Да, конечно, — ответила она. — Мы обязательно увидимся.
«Где там! — с грустью подумал я. — Небось забудешь меня уже через два дня. А может, и не забудешь, — попытался я себя успокоить. — А может, и увидимся. Конечно, увидимся. Обязательно увидимся». И от мысли, что я с ней обязательно увижусь, мне стало веселее. Я даже неожиданно решился на отчаянный шаг — взял ее под руку. Сделалось это как-то само собой, без предварительного обдумывания. И она не выдернула руку.
Я чувствовал себя счастливым. Я охранял ее. Я нес за нее ответственность. Но вот я даже не увидел, а скорее почувствовал, что за нами кто-то неотступно идет.
Я решил не оборачиваться и не думать об этом. Надо громко разговаривать с Инной и не обращать на это внимания.
Я говорил об учительнице физики, которая ко мне придирается, о вратаре Хомиче и еще о чем-то, но думал в это время только о том, кто шел сзади, не догоняя и не отставая от нас, умело пристроившись к ритму ваших шагов, из темноты внимательно глядя на нас чужими, враждебными глазами.
Мне уже хотелось, чтобы не было этого мучительного выжидания, чтобы он скорее напал. Я испытывал радость, что она увидит, как я гибну, защищая ее. Но порой во мне поднималось тошнотворное темное чувство страха. Вязкой, дурной волной оно захлестывало меня, и руки мои слабели. Сам себе я казался маленьким, беспомощным и трусливым.
Читать дальше