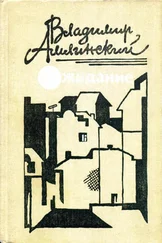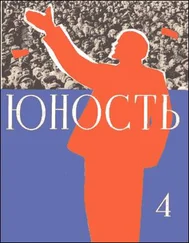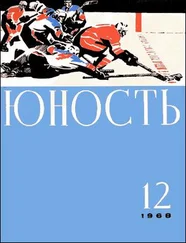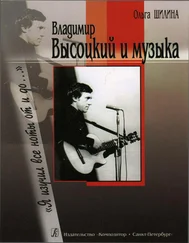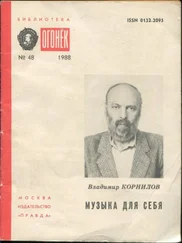С кем можно было бы поговорить насчет магнитофона?
Как ему не хватает общения, разнообразных и интересных людей! Надо как-то привлечь к нему внимание… Может быть, я все-таки напишу о нем…
В пятницу утром я позвонил. Трубку снял почему-то не Эрик, а Миша.
— Здравствуй, Миша, я сегодня собираюсь к шефу. Как он себя чувствует?
Миша не ответил. И снова я услышал этот шорох, это верещание песчинок, и сама пауза, и это расслабленное, раздавленное «аллё» уже несли что-то мною неосознанное, но уже приближающееся и бесповоротное.
— Что ты молчишь, Мишка?
— Он… Он…
— Когда? — спрашиваю я.
— Сегодня, в шесть утра… Никак не мог уснуть. Потом заснул и не проснулся.
…И вот снова этот серый пепельный двор крематория, конвейер автобусов, цветов, слез. Я-то уже знаю дорогу сюда и здешний порядок. Я уже провожал этим маршрутом родных, друзей, а Мишка никогда.
Поэтому он так потерянно стоит в мерцающем по-церковному зале, стоит, опираясь на колонну, и орган обрушивается на него, как обрушивается на человека море в первый раз — сшибает с ног, забивает ноздри и рот и тащит в глубину.
В непонятную людям глубину, в бездну уплывает лодка с человеком.
А на улице за воротами — солнечный свет и дождь.
Дождь идет весь июль и шел всю ночь в четверг, когда наш Эрик силился и не мог заснуть. Последнее, что он видел в своей жизни, — это был рассвет, некрепкое зыбкое солнце и бурный, не иссякающий ни на секунду летний ДОЖДЬ.
1968–1969 гг.
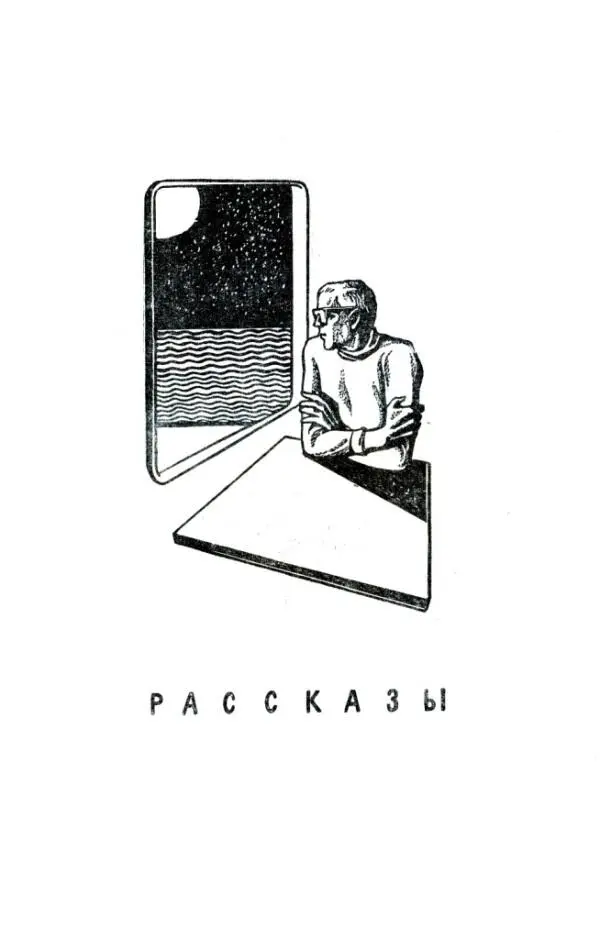
 Улицы дачных поселков почему-то всегда носят громкие названия. В то лето мы жили на улице Парижской коммуны. Она была узенькая, горбатая. На ее тусклой затоптанной траве паслись козы Роза и Люба. Щуплые, с грязно-серой шерстью, они не умели бодаться и панически боялись велосипедов.
Улицы дачных поселков почему-то всегда носят громкие названия. В то лето мы жили на улице Парижской коммуны. Она была узенькая, горбатая. На ее тусклой затоптанной траве паслись козы Роза и Люба. Щуплые, с грязно-серой шерстью, они не умели бодаться и панически боялись велосипедов.
Целыми днями я играл с ребятами в футбол. А когда камера от заплатанного ветхого нашего мяча лопалась, сразу становилось скучно. От нечего делать я шел на станцию смотреть на проходящие поезда. Паровозы начинали кричать всегда неожиданно, и я открывал рот, чтобы не пострадали барабанные перепонки. Этому меня научил Гришка.
Гришка жил здесь всегда. Здесь же он и учился. Отец его погиб на фронте, а мать работала кассиршей на станции. Мы все время проводили вместе. Иногда, правда, Гришка подрабатывал: мастерил на участках столы, скамейки. Он хорошо знал эти края. Мы ходили с ним далеко в лес, где был заросший прудик с ржавой неподвижной водой, на которой лежали сверкающие золотистые головки кувшинок.
Кроме того, Гришка открыл и другое замечательное место — недостроенный дом.
В нем было прохладно, сумрачно, а бревна потемнели и пахли лесом во время дождя. Вокруг стояли сосны, и дачный поселок казался очень далеким от этого дома. Мы шепотом рассказывали друг другу разные истории, и я под руководством опытного Гришки учился курить. Этот дом был нашей тайной. Я таскал у отца папиросы, а Гришка приносил жмых, который мы дружно грызли.
Так проходило лето, и незаметно трава на нашей улице порыжела, а в канавках у заборов дач скопилось много мокрых, измятых листьев. Их меланхолично пожевывали козы Роза и Люба.
Дело шло к 1 сентября, к учебнику Шапошникова по алгебре и к геометрии Киселева, к финальному матчу на кубок по футболу — словом, к Москве. Но пока еще была дача, каникулы, и мы не теряли времени даром.
Однажды мы играли в футбол на нашей улочке. Напротив нашей дачи стоял дом с высоким, желто, солнечно блестящим краской забором.
От сильного удара мяч перелетел через забор. Мы посовещались и решили переступить запретный порог. Гришка подтянулся на руках, его складное, небольшое тело напряглось, мелькнули загорелые пыльные ноги, и уже с той стороны послышался звук пружинящего прыжка. В этот самый момент лязгнули засовы, калитка отворилась, и на улицу вышла девочка. В руках она держала наш мяч. Девочку эту я видел в первый раз. У нее был совершенно не дачный вид — будто она только что вернулась из школы. На черном фартуке сверкал новенький комсомольский значок. Лицо ее совершенно не загорело. Мы с гордостью почувствовали себя почти неграми в сравнении с ней. Она подошла к нам и сказала очень непринужденно:
Читать дальше
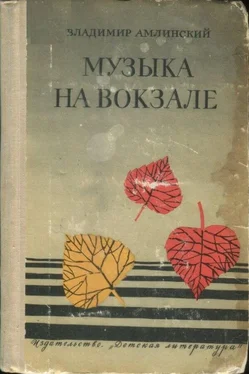
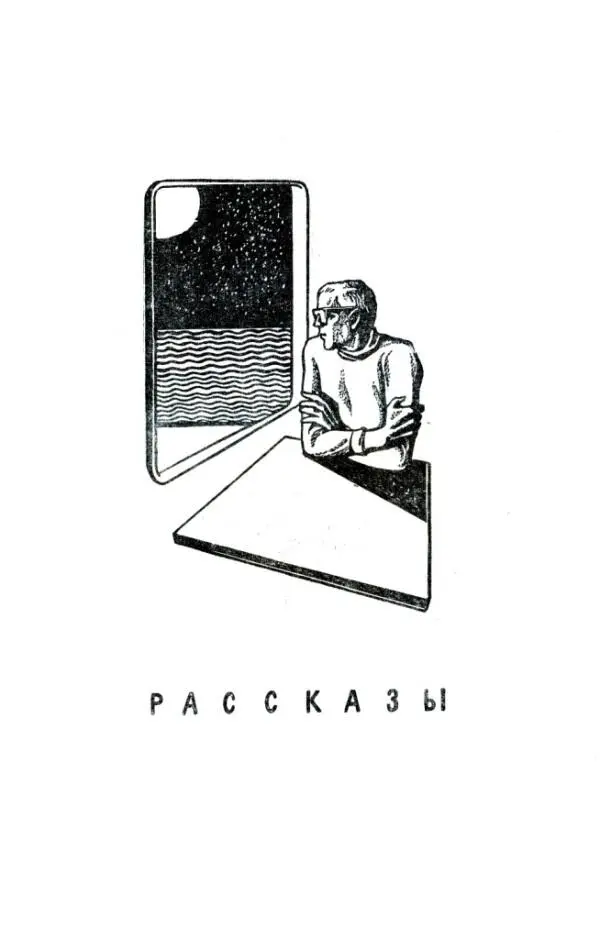
 Улицы дачных поселков почему-то всегда носят громкие названия. В то лето мы жили на улице Парижской коммуны. Она была узенькая, горбатая. На ее тусклой затоптанной траве паслись козы Роза и Люба. Щуплые, с грязно-серой шерстью, они не умели бодаться и панически боялись велосипедов.
Улицы дачных поселков почему-то всегда носят громкие названия. В то лето мы жили на улице Парижской коммуны. Она была узенькая, горбатая. На ее тусклой затоптанной траве паслись козы Роза и Люба. Щуплые, с грязно-серой шерстью, они не умели бодаться и панически боялись велосипедов.