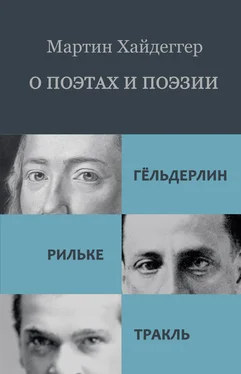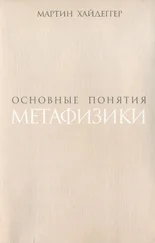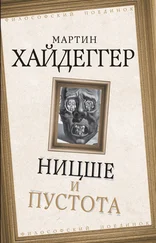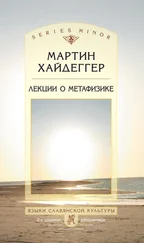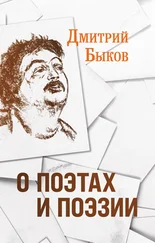Обычному представлению противоюркая сущность боли, освободиться от которой, собственно, можно лишь посредством возвратного рывка, легко покажется абсурдной. Однако именно в таком выявлении скрывается сущностное простодушие боли, которое, пылая, уносится к самому отдаленному, в то же время удерживаясь в созерцании наиболее задушевного.
Таким образом, боль в качестве основной характеристики великой души длит свое чистое соответствие святости Синевы. Ибо последняя светит навстречу лику души, в то время как та уходит в свои собственные глубины. Святое длится, покуда бытийствует, причем уклончиво сдерживает себя, придавая созерцанию кротость.
Обретя словесное выражение, сущность боли тайные свои взаимоотношения с Синевой обнаружила в последней строфе стихотворения «Просветление» (114):
Цветок голубой
тихо поет из пожелтевших камней.
«Цветок голубой» – это «нежный букет синих васильков» священной Ночи. Этой речью воспет исток, к которому восходит творчество Тракля. Одновременно она заключает в себе, она несет «просветление». Поэтическая песнь – это романс, трагедия и эпос в единстве.
Это стихотворение уникально среди остальных, ибо в нем широта созерцания, глубина мысли, простота речи светятся сердечно-искренне и ровно неким несказанным образом.
Боль лишь тогда подлинна, когда служит пламени духа. Последнее стихотворение Тракля называется «Гродек». Превознося, его называют стихотворением о войне. Однако оно о чем-то бесконечно большем, ибо о другом. Его последние строки гласят (201):
Горячее пламя духа окармливает ныне могучую боль, нерожденных внуков.
Упомянутые здесь внуки – ни в коем случае не оставшиеся незачатыми сыновья павших сынов, восходящих к растленному человеческому роду. Если бы речь шла лишь об этом, о прекращении воспроизводства предыдущих поколений, тогда поэт мог бы лишь ликовать по поводу такого финала. Но он печалится; правда, печалится «величаво-гордой» печалью, пламенно созерцающей покой Нерожденных.
Нерожденные называются внуками, ибо они не могут быть сыновьями, то есть непосредственными потомками падшего рода. Между ними и наличным поколением живет некая иная генерация. Она – иная, ибо другого типа, соответственно своему иному сущностному происхождению из рассветной рани Нерожденного. «Могучая боль» – это всёсожигающее созерцание, заглядывающее в пока еще уклоняющуюся рань того Мертвеца, навстречу которому устремлялись, умирая, «души» тех, кто погибли юными.
Но кто же хранит эту могучую боль, если она питает жаркое пламя духа? Все, что одной породы с этим духом, принадлежит к энергии, выводящей на путь. Все, что одной породы с этим духом, зовется «духоносным» (geistlich), священным. Поэтому поэт «духоносносвященными» называет сумерки, ночь и годы: в первую очередь это и исключительно это. Сумерки дают возможность явиться Синеве ночи, ее воспламененью. Ночь пылает как светящееся зеркало звездного озера. Год возгорается, поскольку он покоится на пути солнечного движения, его восходов и закатов.
Что же это за дух, побуждающий «Духоносное» к бодрствованию и к следованию за собой? Это тот самый дух, что в стихотворении «К одному рано почившему» специально назван «духом почившего в юности» (136). Это дух, уводящий в отрешенность «нищего» из «Духовной песни» (20), и тот говорит (как это видно из стихотворения «В деревне», 81), что «бедняк» пребывает «в духе одиноко умершим».
Отрешенность бытийствует в качестве чистого духа. Она есть покоящееся в своей глубине, тихо пылающее сияние Синевы, воспламеняющей тихое детство в золото Начала. Навстречу этой рани смотрит золотой лик образа Элиса. В его встречном взоре рань сохраняет ночное пламя духа отрешенности.
Так что отрешенность не есть ни состояние Рано-умершего, ни некое неопределенное место его пребывания. Отрешенность по сути своего пылания есть собственно Дух и в качестве такового она – сама сосредоточенность, забирающая сущность умерших и приводящая их назад в их тихое детство, укрывающая их и защищающая как еще не выношенную породу людей, которой предстоит создать будущий человеческий род. Эта сосредоточенность, внутренняя центрированность отрешенности бережет Нерожденное, перенося его поверх отжившего в грядущее возрождение человеческого рода, возрождение из глубин рассветной рани. В качестве духа кротости эта внутренняя сосредоточенность утишивает также и духа зла, мятеж которого достигает предельного коварства тогда, когда он, прорвавшись из разлада полов, врывается в сферу сестринско-братского.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу