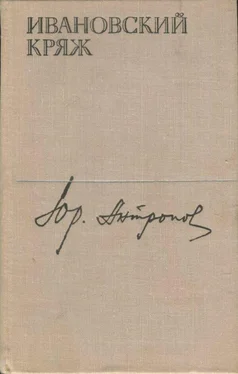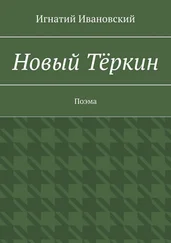Ноги в туфлях, не прикрытые тенью от дерева, скоро нагреваются, липнут подошвами к стельке. Она высвобождает их, шевелит в воздухе пальцами и примащивает сверху на туфли; подумала, не снять ли еще и плащик, но вдруг устыдилась этой малой своей праздности, покосилась на окна и снова сунула ноги в туфли.
Когда она подходила сюда, видела, что окно медпункта было открыто и у отдернутой наполовину занавески грелась на солнышке Дуська, рано расплывшаяся и обленевшая с некрутой своей работы. До этого, бывало, Дуська частенько захаживала к ней, особенно перед танцами: «Машенька, сделай мне что-нибудь с моими лохмами!» А они у нее и впрямь лохмы: жирные, реденькие, — как смеялся Митя: «У этой Дуськи не волосы на голове, а загадка природы — три волосинки в четыре ряда!» Накрутишь, причешешь — разве она хоть раз отказалась? А теперь Дуська на людях старается с ней не разговаривать, не хочет, видно, бросить на себя тень. Ох люди…
Да что про чужих говорить, когда даже свои отвернулись от нее. Дядя Наум, родной брат отца, тоже считает ее виноватой. Правда, Таисия, жена Наума, наоборот, сочувствует Марии, хотя и не высказывает вслух этого сочувствия — чаще прежнего стала угощать Игорька конфетами. А дядя Наум даже здороваться перестал. Говорит: «Бросаешь, Мария, тень на нас, Комраковых!..»
В корпус ведут новую группу отдыхающих. С чемоданами, прямо с автостанции. Сестра-хозяйка Валя Ануфриева уже успела их где-то встретить — молодец, Валюха, работу свою знает. Тоже одна. И тоже в годах — тютелька в тютельку тридцать. Как и ей. Как и Чурсихе. Как и Дуське тоже. «Девки на выданье», — шутила когда-то сама над собой и над ними Мария. «Ну что, девки, пойдем на танцы-то?» А сегодня точно будут танцы, вспоминает Мария, сегодня открытие заезда. Совсем вылетело из головы. А раньше как-то подбиралась вся, наполнялась каким-то щемящим предчувствием. Правда, перед прошлым сезоном это чувство было уже покойнее — тогда у нее с Митей что-то начиналось, открыто к ней он еще не ходил, но уже ревновал, дулся, если она танцевала с кем-нибудь из отдыхающих. А она нарочно дразнила его, приглашала кого-нибудь сама, хотя только и видела, как Митя стоит на веранде и курит, и у нее внутри все обрывалось от сладкой мысли, что вот кто-то из-за нее расстраивается, кому-то, оказывается, она еще нужна — значит, жизнь не кончилась. В такие минуты она забывала про своего Игорька, а потом кляла себя, вспоминая, как он ни в какую не шел домой и, пережидая танцы, по-ребячьи трудно боролся со сном в уголке на стуле. Было, ох было… Лучше не вспоминать об этом…
Она старается удержать свой взгляд на чем-нибудь простом, только чтобы ни о чем не думать, смотрит вверх на нижние ветки ивы, для чего-то считает пчел, берущих с желтых пахучих сережек первый взяток, и будто кто ее толкает в спину — она видит Митю, бок о бок идущего с Чурсихой. «Видно, из столовой, — невпопад думает Мария, — хорошо еще, что я сама не пошла, а Игорька за обедом отправила».
Митя, словно не замечая ее, что-то последнее говорит Чурсихе и сворачивает в сторону, уходит к гаражу; Мария смотрит ему вслед и краем глаза в то же время отмечает, что сама Чурсиха направляется к ней.
— Здорово, давно не виделись… — шутит соседка, маленькое лицо ее лоснится, она не спеша вытаскивает из-под рукава своего вязаного платья вчетверо сложенный платочек и осторожно, чтобы не смазать тушь, осушает щеки.
Мария еще успевает настороженно удивиться, что внутри у нее все заходится от какого-то предчувствия. И молчит. Смотрит на Чурсиху и молчит. Куда весь мир подевался со всем своим добром, будто ни солнца, ни неба, ни пчел над головой с их медовым гудом век не бывало. Одна вот Чурсиха и сидит перед ней, на скамейке напротив, и смотрит на нее с таким видом, будто сама знает давно, что никакого мира вообще не было, знает, а потому говорит ей с пугающе сладострастным удовольствием, как казнит:
— Твой-то… знаешь, что сказал?
«Про кого это она, про Митю, что ли?» — силится разгадать Мария эту новую, дневную, Чурсиху.
— …Раз, говорит, Комракова — ну ты то есть! — не хочет ни в какую выписывать из общежития свою Поликарпиху, то, говорит, он лично вынужден был присоветовать Кокону вызвать из района работников прокуратуры и ОБХСС: мол, пускай товарищи пресекут это дело в корне, раз некоторые сами того добиваются…
Мария молчит, молчит, просто ничего не может сказать, и только пугается, что молчанка эта не к добру — ей надо что-то ответить Чурсихе, а у нее от всего этого как отнялся язык. И когда Чурсиха говорит ей еще что-то и делает движение подняться и идти по своим делам, Мария будто сама себе вполголоса молвит:
Читать дальше