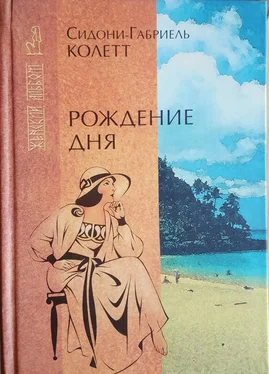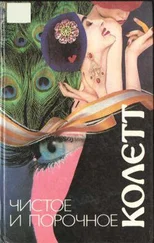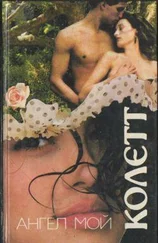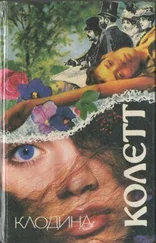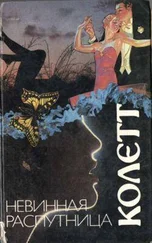— Это желтая груша. Но она плохая, и я тебе не предложила ее.
Такая свобода в их отношениях не развеяла совсем смутной тревоги Филиппа. Ему показалось, что Венка немного слишком кротка и ясна, как дух, и он вдруг подумал об этой странной веселости, словно выпорхнувшей из могилы, об этой бездумной теплоте, которая слышится в смехе монашек. «Хорошо бы увидеть ее лицо», — пришло ему на ум. Он вздрогнул, представив себе, что этот голос, лишенный окраски, эти слова играющей девочки могли исходить от скривившейся маски, брызжущей гневом и сверкающей яркими красками, который противостоял полыханию его ярости там, в скалах.
— Слушай, Венка!.. Давай вернемся.
— Как хочешь. Подожди еще минутку. Еще минутку. Мне хорошо. А тебе? Нам обоим хорошо. Как ночью легко живется! Но не в комнате. О! Я ненавижу вот уже несколько дней свою комнату. Здесь мне не страшно… Светлячок! Так поздно, осенью! Нет, не надо его брать… Глупый, ну чего ты вздрогнул? Это всего-навсего кошка пробежала. Ночью кошки ловят полевых мышей…
Послышался тихий смех, рука Венка обвила его талию. Он прислушивался к каждому вздоху, к каждому хрусту, но, несмотря на беспокойство, он был рад этому непрекращающемуся, с разными оттенками перешептыванию. Венка не боялась темноты и вела себя в ней как в знакомой, дружеской стране и все объясняла Филиппу, оказывала ему полночные почести и вела его за собой, словно поводырь.
— Венка, дорогая, вернись…
Она издала звук, похожий на лягушачье кваканье.
— Ты назвал меня дорогой! Ах, почему ночь не все время! Ты сейчас не тот, кто обманул меня, а я не та, которая так страдала… Ах, Фил! Давай пока не будем возвращаться, позволь мне немного побыть счастливой, немного влюбленной, уверенной в тебе, какой я была в своих мечтах, Фил… Фил, ты не знаешь меня.
— Может быть, дорогая…
Они споткнулись обо что-то на сухой траве, которая хрустнула у них под ногами.
— Это побитая гречиха, — сказала Венка. — Они сегодня били ее цепами.
— Откуда ты знаешь?
— А когда мы с тобой спорили, ты не слышал ударов цепов? Я слышала. Сядь, Фил.
«Она, она слышала… Она была в ярости, ударила меня по лицу, без конца говорила мне разные слова, но при этом слышала удары цепов…»
Он невольно сравнил с этой неусыпностью всех женских чувств воспоминание о другой женской умелости…
— Фил, не уходи! Я не была злой, я не плакала, не упрекала…
Круглая головка Венка с шелковистыми, ровно подстриженными волосами склонилась на плечо Филиппа, и теплота щеки девушки согрела его щеку.
— Обними меня, Фил, умоляю тебя, умоляю…
Он обнял ее, примешав к своему удовольствию беспощадность юности, которая думает лишь об удовлетворении собственных желаний, и слишком сильное воспоминание о другом поцелуе, который у него взяли, не спросясь его. Но он узнал очертания губ Венка, прижавшихся к его губам, вкус, который хранили ее губы, вкус надкушенного ею плода, почувствовал готовность, с какой приоткрылся этот рот, обнаружив и без остатка отдав свою тайну, — и он покачнулся во тьме. «Ну, все, — подумал он, — мы погибли. Ах, скорей бы уж, раз так надо и потому что она не захочет больше никогда, чтобы было по-другому… Бог ты мой, какой у нее рот, глубокий, неотвратимый и умелый с самого начала… Мы погибаем, скорее, скорее!..»
Но обладание — это чудо, достающееся с трудом. Яростная рука, которую ему не удавалось отвести, крепко сжимала затылок Филиппа. Он тряхнул головой, чтобы освободиться от этой руки, но Венка, подумав, что Филипп хочет прервать их поцелуй, еще теснее прижалась к нему. Наконец он схватил ее за напрягшееся запястье и отбросил Венка на ложе из гречихи. Она издала короткий стон и лежала, не шевелясь, но, когда он пристыженно склонился над ней, она снова привлекла его к себе и вытянулась. Наступила сладостная передышка, почти братская, каждый из них испытывал к другому немного жалости и теплоты, смирение подвергнутых испытанию любовников. Венка, невидимая, лежала на повернутой вверх ладонью руке Филиппа, а другая его рука гладила ее кожу, чью нежность он знал так же, как и рельефные следы, оставленные шипом цветка или неровностями скалы. Она попыталась засмеяться, попросив его тихо:
— Не трогай мои роскошные ссадины… Ах, какой мягкой кажется гречиха…
Но он слышал, как дрожит ее голос, и сам дрожал. Он все время искал в ней то, что знал меньше всего, — ее рот. Пока они переводили дух, он решил вскочить на ноги и опрометью броситься домой. Но, отодвинувшись от Венка, он почувствовал себя физически опустошенным, его охватил ужас от свежего воздуха и от своих пустых рук, и он вернулся к ней с тем порывом, которому поддалась и она и который переплел их ноги. Он нашел в себе силы назвать ее «Венка, дорогая» с покорной и в то же время умоляющей интонацией, призывая ее одновременно благословить его и забыть о том, чего он пытался добиться от нее. Она поняла и обнаружила лишь изнемогшее молчаливое отчаяние, поспешность, о которую она сама ранила себя. Он услышал короткий возмущенный стон, выдержал невольную атаку, но тело, которое он оскорблял, не отпрянуло от него и отказалось от помилования.
Читать дальше