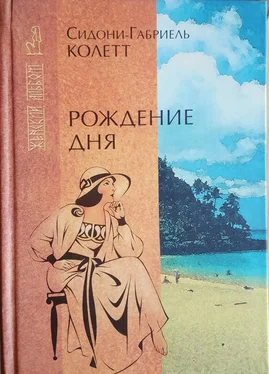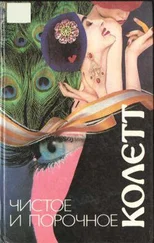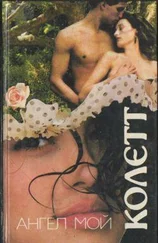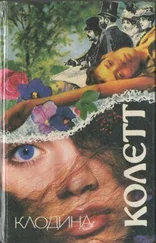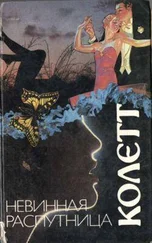Он неловко склонился перед великодушно нарисованным им неопределенным образом. Пренебрегая желанием признаться самому себе, что ему хочется видеть Венка несравненную, прихорошившуюся, надушенную, он ограничился тем, что выказал печаль, какую испытывал, видя ее коленопреклоненную, по-детски подурневшую. С его губ сорвалось несколько жестких слов, но Венка не обратила на них внимания. Это ожесточило его, тогда она ответила ему, но так, что он обругал ее, сам устыдившись своей несдержанности. Ему потребовалось несколько минут, чтобы овладеть собой, он извинился с неубедительной сокрушенностью и почувствовал облегчение. Однако Венка продолжала терпеливо соединять разрозненные пары сандалий, выворачивать карманы поношенных свитеров, полные розовых ракушек и засохших морских коньков…
— Ну что ж, как хочешь, — заключил Филипп. — Ты молчишь… А я все говорю и говорю. Ты ведешь себя скверно. Почему?
Она окинула его взглядом умудренной жизненным опытом женщины, созревшей на уступках и уловках большой любви.
— Ты меня мучаешь, — сказала она, — но, по крайней мере, ты здесь.
«Этот год мы закончим тут, — мрачно думал Филипп, глядя на море. — Венка и я, в прошлом сплавленные в одно существо и, значит, вдвойне счастливые, существо, которое было Фил-и-Венка, в этом году умрет, умрет здесь. Разве это не ужасно? Разве не в моих силах этому помещать? Я ведь тут… Но сегодня вечером, после десяти, я, возможно, в последний раз за эти каникулы пойду к мадам Даллерей…»
Он наклонил голову, и его черные волосы поникли, как ветви плакучего дерева.
«Если б пришлось к ней идти сейчас, я бы отказался. Но почему?»
Белая под мутным, зажатым меж двух грозовых туч солнцем дорога, ведущая в Кер-Анну, вилась вдоль холма, поднималась, потом терялась вдалеке, поросшая жестким можжевельником, серым от пыли. Филипп отвел от дороги взгляд, к горлу подступила знакомая тошнота. «Да… Но сегодня вечером…»
После трех завтраков в Кер-Анне он отказался от дневных визитов, боясь, как бы не стали беспокоиться его родные и не заподозрила чего-нибудь Венка. Впрочем, его крайняя молодость быстро изобретала алиби. Он остерегался также сильного смолистого запаха, характерного для Кер-Анны и того тела, которое он видел и обнаженным, и прикрытым одеждами; и ту, кому оно принадлежало, он тихонько, с гордостью маленького беспутного мальчишки или с печальными угрызениями совести супруга, обманувшего дорогую его сердцу жену, называл своей любовницей, а иногда своей повелительницей…
«Буду ли я уличен или нет, с этим надо кончать здесь. Но почему?»
Ни одна книга среди всех, которые он читал открыто, положив локти на песок, или укрывшись в своей комнате скорее из чувства целомудрия, чем от страха, не учила тому, что кто-то должен непременно погибнуть в таком обыкновенном кораблекрушении.
В романе сотни страниц или даже больше заполнены описанием приготовлений к любви физической, само же это событие занимает пятнадцать строк, и Филипп тщательно пытался отыскать в своей памяти книгу, где было бы описано, как молодой человек, один раз оступившись, не расстается с детством и целомудрием, но продолжает оставаться в них, увлекаемый глубокими, как бы подземными, течениями еще много-много лет…
Филипп поднялся и пошел вдоль берега, изъеденного, истаявшего из-за сильных морских приливов. Над пляжем склонился вновь зацветший куст терновника, питающийся и держащийся лишь за счет немногочисленных сплетений своих корней. «Когда я был маленький, — подумал Филипп, — этот куст терновника не склонялся над пляжем. Море съело берег — по крайней мере, метр его, — пока я рос… А Венка уверяет, что это куст терновника подрос…»
Недалеко от терновника зияла та самая круглая ложбина с ковром синего чертополоха, который все из-за голубизны называли «глазами Венка». Именно там в один прекрасный день Фил тайком нарвал голубого чертополоха — эту колючую дань любви — и перебросил его через стену Кер-Анны… Сегодня цветы на склонах были сухи, обожжены солнцем… Филипп остановился на минуту; он был еще слишком молод, чтобы улыбнуться таинственному значению, которое любовь придает увядшему цветку, раненой птице, сломанному кольцу, и он оттолкнул свое несчастье, расправил плечи, отбросил назад привычным, гордым движением волосы и мысленно сделал себе выговор, что не умалило важности любовного романа для только что причастившегося его таинства.
Читать дальше