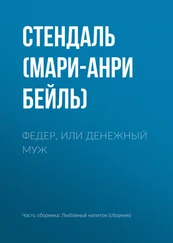Правда, мне приходило в голову, что они так храбры только потому, что не знают, как мучительны бывают раны.
Что же касается нравственного мужества, неизмеримо более высокого, то твердость женщины, борющейся со своей любовью, – самое великолепное из всего, что только существует на свете. Всякие другие проявления мужества кажутся пустяками по сравнению с этой столь противоестественной и столь болезненной борьбой. Может быть, они почерпают силу в привычке к жертвам, навязанной нам стыдливостью.
Несчастье женщин в том, что проявления этого мужества всегда остаются скрытыми и почти не подлежат огласке.
Еще большее несчастье в том, что оно направлено против их счастья: принцессе Клевской следовало ничего не говорить мужу и отдаться герцогу Немурскому.
Может быть, женщин главным образом поддерживает гордое сознание того, что они отлично защищаются, и они воображают, что обладание ими является для любовника вопросом тщеславия. Жалкая и ничтожная мысль! Как будто у страстного человека, ставящего себя с легким сердцем во всякие смешные положения, есть время думать о тщеславии! Так монахи, воображающие, что они провели дьявола, вознаграждают себя гордостью за свои власяницы и умерщвление плоти.
Мне кажется, что, если бы принцесса Клевская дожила до старости, до того времени, когда мы судим свою жизнь и когда наслаждения гордости предстают пред нами во всем их ничтожестве, она раскаялась бы. Задним числом ей захотелось бы прожить свою жизнь так, как прожила свою г-жа де Лафайет [68].
Я сейчас перечел сотню страниц этих опытов; мне удалось дать лишь очень скудное представление о настоящей любви, занимающей всю душу, наполняющей ее то самыми радужными, то самыми безотрадными, но всегда высокими образами и делающей ее совершенно нечувствительной ко всему остальному на свете. Я не знаю, как выразить то, что мне столь ясно; никогда еще так не тяготило меня отсутствие таланта. Как сделать ощутимыми для читателя простоту действий и характеров, глубокую серьезность, взгляд, так верно и с таким чистосердечием отражающий оттенок чувства, и в особенности – я опять возвращаюсь к этому – невыразимое безразличие ко всему остальному, кроме любимой женщины? Да или нет, произнесенное любящим существом, полно умилительной глубины, которой нет ни в чем другом, которой не было у этого самого человека в другое время. Сегодня (3 августа), около девяти часов утра, я проехал верхом мимо красивого английского сада маркиза Дзампьери, расположенного на последних отрогах тех увенчанных высокими деревьями холмов, к которым прислонилась Болонья и с которых можно наслаждаться таким великолепным видом на богатую и зеленую Ломбардию, прекраснейшую страну в мире. В лавровой рощице сада Дзампьери, возвышающейся над дорогой, по которой я ехал и которая ведет к водопаду Рено у Каза-Леккьо, я увидел графа Дельфанте; он был погружен в глубокую задумчивость и, хотя мы провели вместе вечер и расстались только в два часа ночи, едва ответил на мой поклон. Я осмотрел водопад, перебрался через Рено; наконец, по крайней мере три часа спустя, я снова очутился у рощицы сада Дзампьери и снова увидел его; он стоял в той же самой позе, прислонившись к огромной сосне, которая высится над лавровой рощицей; боюсь, что эту подробность найдут слишком обыденной и ничего не доказывающей: он подошел ко мне со слезами на глазах и попросил меня не делать анекдота из его неподвижности. Я растрогался и предложил ему вернуться, обещав провести с ним остаток дня в деревне. Через два часа он рассказал мне все: это прекрасная душа; но как холодны только что прочитанные вами страницы по сравнению с тем, что он говорил мне!
К тому же ему кажется, что он не любим; я не разделяю его мнения. На прекрасном мраморном лице графини Гиджи, у которой мы провели вечер, нельзя прочесть ничего. Иногда только внезапная и легкая краска, над которой она не властна, выдает волнения ее души, раздираемой женской гордостью и сильным чувством. Видно даже, как краснеет ее алебастровая шея и открытая часть плеч, достойных Кановы. У нее хватает искусства скрывать свои мрачные черные глаза от взглядов тех людей, чьей проницательности боится ее женская чувствительность; но я видел сегодня вечером, как внезапная краска залила все ее лицо, когда Дельфанте сказал что-то, чего она не одобрила. Этой надменной душе показалось, что он менее достоин ее.
Но все же, если бы даже я ошибался в своих предположениях о счастье Дельфанте, то, оставив в стороне тщеславие, я считаю, что он счастливее меня, равнодушного человека, находящегося, и на посторонний взгляд и на самом деле, в очень благоприятных условиях для счастья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
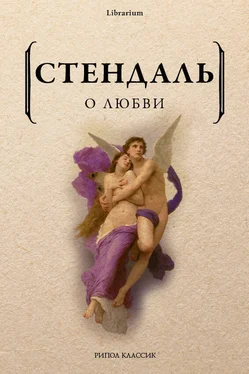
![Стендаль (Мари-Анри Бейль) - Ванина Ванини [сборник]](/books/28210/stendal-mari-anri-bejl-vanina-vanini-sbornik-thumb.webp)