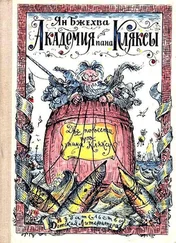Рецензенты и друзья без зазрения совести расхвалили его, и судьба Роусека была решена. Теперь вместе с сединой (и лысиной вдобавок!) к нему пришло сознание того, что он свалял дурака и ступил на ложный путь, но поздно. Иногда, в порыве откровенности, я говорил ему: "Милый Роусек, пора бы тебе бросить пиСанину! Ты же сам признаешь, что родился посредственностью и что теперь, на старости лет, тебе изменяют последние крохи юмора и фантазии. Вокруг тебя писатели, перед которыми мы преклоняемся, но посмотри только, что о них пишут! Вся наша литература великое ничто, смехотворное фиаско, мыльный пузырь, который мы превозносили как играющее всеми цветами радуги чудо и который в один прекрасный день лопнул, превратившись в мыльные брызги. Вот что пишут, да к тому же еще советуют: "Оставьте ваши, детские забавы, бросьте свое мыло и примитесь за что-нибудь более полезное!" Если нация нуждается в книге, ей на первых порах вполне хватит переводной литературы и наших критических пирaмид. Возможно, впоследствии кто-нибудь да вытащит чешский литературный воз из болота. Уже сейчас в нашем узком кругу найдется несколько светлых голов, от которых со временем можно ожидать чего-либо путного... Видишь, милый Роусек, что говорят о нашей литературной братии. Чего же надеешься добиться ты, коль скоро сам признаешь, что не бог весть какой гений. Послушайся, дружище, моего доброго совета: брось бесполезное бумагомарание и займись чем-нибудь другим! Хоть ты yже далеко не молод, авось выклянчишь себе уютное местечко. Не откладывай этого в долгий ящик, сейчас же принимайся за дело! Я одолжу тебе свою новую черную пару - мы ведь с тобой одного роста! - а если хочешь, то и выходные перчатки, и белый галстук. Не скупись на униженные поклоны, ссылайся на свои скромные заслуги - они и впрямь весьма скромны,- придай лицу жалостливое выражение - глядишь, может, кто и вспомнит о каком-нибудь пустующем стуле в каком-нибудь региональном учреждении, который милостиво соблаговолят занять твоей невзрачной персоной".
Так в минуты откровения не раз говаривал я неудачнику.
Он молча переминался с ноги на ногу, грыз ногти и, конечно же, опять раздумывал над тем, как бы обвести меня вокруг пальца и всучить очередную пачкотню.
Попался я на его удочку и в прошлом году.
Однажды сей литературный калека прискакал ко мне с подозрительно поблескивавшими глазами и начал плести что-то о новой вещи, которую-де он намеревается сочинить. Так бывает всякий раз, едва только в его мозгу забрезжут контуры будущего творения.
И, глядя на лихорадочно-восторженное лицо Роусека, слушая его вдохновенные речи, невольно начинаешь верить, что в голове у этого человека созрел потрясающий замысел - стоит только перенести его на бумагу, и цитадель бессмертия будет взята.
В тот раз Роусек с жаром вещал о "блистательной юмореске", "великолепной сатире" или остроумной "комико-фантастической повести", что-то в этом роде.
Пока он принес лишь первую главу, которую тут же мне и огласил. Из нее я узнал, что героем новой вещи Роусека является некий Матей Броучек, пражский домовладелец, непостижимым образом угодивший из градчанского трактирчика "Викарка" на Луну. Следующие главы должны были повествовать о том, что он там увидел и пережил. Никто не станет отрицать, что из этого могло получиться все, что угодно, а следовательно, и нечто стоящее; к тому же Роусек делал такие умопомрачительные намеки насчет дальнейшего, столь многообещающе сверкал глазами, что в конце концов ему удалось внушить мне сумасбродную мысль, будто в его лице я имею дело с чешским Свифтом, Сервантесом и Рабле одновременно.
Он до такой степени заморочил мне голову, что я позволил тотчас отэскортировать себя с роковою первой главой в типографию. Правда, Роусеку пришлось поклясться, что он умрет, но в течение восьми дней представит мне всю рукопись целиком.
Но чего стоят клятвы Роусека! Все кончилось как обычно. Вместо всей рукописи я с трудом заполучил от него через месяц вторую главу. И каждую последующую мне приходилось у него буквально вырывать в последнюю минуту, умоляя и даже прибегая к угрозам. С качеством рукописи дело обстояло и того хуже.
Оригинальное, остроумное, блестящее произведение осталось в голове Роусека, а на бумаге возникала тусклая, нелепая мешанина из плохо понятых и неверно списанных пассажей из научных трудов (Роусек и наука!), сумбур из жалких острот и убогого подражания зарубежным юмористам. Уже после третьей главы несчастный автор признался, что вся затея ему опротивела, и, когда он своему достойному сожаления детищу переломил наконец позвоночник неожиданным финалом, где вовcе неостроумно объявил путешествие на Луну жалкой мистификацией, выдумкой, принятой им за чистую монету, у меня гора с плеч сваяшшеь.
Читать дальше