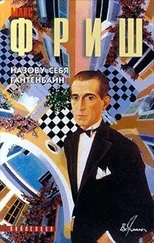Город родной, как найду я его?
Вслед за стаями бомбардировщиков
пришел я домой.
Где он? Там, где страшные
тучи дыма клубятся.
Вон там в пламени пожаров
лежит он.
Город родной, как он примет меня?
Впереди меня летят бомбардировщики.
Смертоносные стаи
возвещают о моем прибытии. Пожары
предшествуют возвращению сына.
Одним из немногих, чьи стихи в этом смысле могут устоять, является Брехт. Чтобы это стихотворение дошло до меня, мне не нужно быть одурманенным или усталым, что многие принимают за внутреннюю глубину. Оно остается стихотворением, даже если я произнесу его в кухне: без свечей, без струнного квартета и олеандров. Оно касается и меня. И главное: мне не нужно ни о чем забывать, чтобы принять его всерьез. Ему не требуется определенного настроения; ему незачем бояться и другого настроения. Большая часть того, что считает себя поэзией, превращается в резкую иронию, если я в течение одного только дня буду сопоставлять это с моей жизнью. Романтическая ирония - всего лишь уловка для предупреждения этой иронии и признание, что поэзия отделяет себя от реального жизнеощущения. Гейне не может сам себе поверить, хотя чувства, воспеваемые им, в высшей степени возможны; но они не могут устоять перед всем другим, что он знает. За розой, грубо говоря, стоит сифилис. Его сознание, не содержащееся в его поэзии, заставляет его первым начать подшучивать над своей поэзией, показывать, что он сам не принимает ее всерьез: потому что она отстает от его сознания, не может устоять перед его сознанием. Он кажется себе двуличным - чувство, которое пристало бы столь многим поэтам. Гейне честен и потому ценен.
Но следующий шаг, пожалуй, - стать еще честнее: не сочинять то, что предки в соответствии со своим сознанием принесли в поэзию, а действительно творить, воссоздавать наш мир. Тогда нечего будет бояться сознания и не нужна будет ирония, равно как и шторы, свечи и олеандры, потому что тут не будет притворства, двуличия...
Брехт читает нам застенчиво, без напряжения, обычным тихим голосом, с обычным диалектным звучанием, он почти шепчет, но отчетливо и точно прежде всего в ритме, без подчеркиваний, деловито, показывая слова, как показывают булыжники, ткани или другие вещи, которые должны говорить сами за себя; поведение человека, который, куря сигару, вынужден прочитать вслух текст просто потому, что не каждый имеет этот текст под рукой; примерно так читают письмо: сообщая. И не мешает, если звонят, если пришел новый гость или через комнату проходит дочь, так как другого хода нет. "Я как раз читаю стихотворение, - говорит он вновь пришедшему, - оно называется "К потомкам". Говорит это для того, чтобы тот пока подождал со своим разговором, и читает дальше, сообщая, что еще он хочет сказать потомкам...
Обычная пауза, наступающая после чтения стихов, поскольку мы, так сказать, выйдя из церкви и оказавшись вдруг без органа, как бы очарованные должны вернуться в мир совсем иной, - эта пауза не нужна; стихотворению подлинному незачем бояться подлинного мира; оно может устоять и тогда, когда звонит и приходит неожиданный гость, который, пока мы пьем все ту же чашку кофе, рассказывает о своем четырехлетнем тюремном заключении...
"Право, я живу в мрачные времена".
Не все стихи имеют в себе эту устойчивость, эту возможность быть во-всякое-время-сказанными. Слабость иных стихов, по-моему, не в том, что они слишком отвлеченные, а в том, что они перенасыщены идеологией, а это один из способов не быть подлинным.
"Быть подлинным".
Подлинен, я сказал бы, Гёте. В "Максимах и рефлексиях" часто достаточно четырех строк. Исходный пункт - констатация, затем следует рождение мысли, столь непреложно и определенно, что сразу же опускаешься на колени, дабы предложить свои услуги, и потом, когда наш брат не удержался бы от выводов, уничтожающих все сомнения, выводов, равных крестовым походам, случается неожиданное, прямая противоположность заострению, - он, не опровергая мысли, противопоставляет ей что-либо из опыта, скорее противоречащего, по меньшей мере приглушающего ее, опыта, с которым считается та же голова, что породила мысль, считается просто потому, что это опыт, живой, действительный. Это и есть мнимо примиряющее в его рефлексиях, потому что они почти всегда показывают свет и тени. Мнимо - ибо они никоим образом не снимают противоречие. Они держат его только в равновесии, в состоянии взаимного оплодотворения, баланса между "думать" и "видеть". Ни одна мысль не предается смерти, так как она не уничтожает противоречащего опыта, не порабощает заносчиво, а имеет силу принять его в себя - силу остаться подлинной, или точнее: каждый раз заново становиться подлинной.
Читать дальше