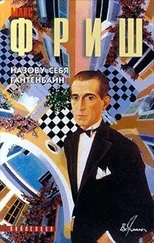Брехт и теория.
Чем дальше во времени уходит от нас Брехт, тем чаще делаются попытки видеть в нем прежде всего теоретика - глашатая эстетических позиций, Брехта - анти-Аристотеля, Брехта, который не упускал ни одной творческой удачи, не обосновав и не подчинив ее затем определенной теории. Возможно, это и явилось наиболее заметной чертой Брехта для тех, кому он себя демонстрировал. Рабочая кепка и короткая стрижка стали классической характеристикой его внешности и воспринимались большинством людей как доказательство его солидарности с пролетариями. Но их можно было истолковать и по-другому: например, как подчеркивание силы мужского характера, не той грубой физической силы, признаком которой является наличие усов и бороды, а силы мужского интеллекта, ума.
Брехт находил то, что искал и к чему стремился, в марксизме. По-видимому, он верил в возможность изменить мир с помощью пьес и стихов. Во всяком случае, в серьезности его политических симпатий сомневаться не приходится: они предопределили весь дальнейший жизненный и творческий путь писателя. Брехт нуждался в доктрине, и идеи являлись для него оправданием творчества, а не творчество - оправданием идей. Сейчас даже трудно представить себе Брехта без марксистской теории, которая оказала решающее влияние на освобождение его от идей анархизма и помогла уберечь талант художника от сползания в болото нонконформизма *.
Однажды, находясь в Вайсензее, я спросил его: "Вас упрекают в формализме. Что понимают под формализмом те, кто выдвигает такое обвинение?" Брехт пробует отделаться шуткой: "Ничего". Я не удовлетворяюсь этим ответом и прошу его высказаться подробнее. Откинувшись в кресле, Брехт продолжает курить. Ему неприятны мои расспросы. Наконец, сделав вид, что его все это не трогает, он шутливо говорит: "Формализм означает то, что я кое-кому не нравлюсь". С трудом скрываемая неприязнь дает о себе знать в следующей фразе: "На Западе, верно, нашли бы для всего этого иное определение". Потом разговор переходит на другую тему. И только позднее, когда я уже совсем не ожидал услышать что-либо относящееся к этому вопросу, Брехт вдруг ни с того ни с сего заговорил откровенно: "Видите ли, мы работаем в "долгий ящик". В этом я убедился в эмиграции. Но придет время, когда нашу работу раскопают и она, быть может, еще кому-нибудь пригодится".
В сущности, для меня был (да и теперь остается) неясен характер наших взаимоотношений. Разве у него не было более верных друзей, чем я? Внезапная доверчивость Брехта, по крайней мере в первые минуты наших встреч, всегда приводила меня в смущение и заставляла почувствовать угрызения совести, хотя причин для этого не было. Быть может, его просто тянуло к людям, которые в дальнейшем не становились его единомышленниками?
Мне редко доводилось встречаться с великими людьми, великими по-настоящему, и, если бы меня сейчас спросили, в чем же, собственно говоря, проявлялось величие Брехта, я бы не нашелся, что ответить. По сути дела, я всегда испытывал одно и то же чувство: стоило мне с ним расстаться, как образ его приобретал для меня все большую реальность. Это величие действовало всегда постфактум, оно доходило до моего сознания с опозданием. Избавиться от этого подавляющего чувства его величия помогала только новая встреча с этим невзрачным на вид человеком.
Моя последняя встреча с ним состоялась в сентябре 1955 года, незадолго до его смерти. Она была короткой и даже несколько холодной. Я чувствовал себя неловко, так как здесь же находился Бенно Бессон, с которым я, как и с другими членами "Берлинер ансамбль", был знаком лично. Мы испытывали по отношению друг к другу чувство недоверия и неприязни, которое было вызвано разногласиями по политическим вопросам. В последнее время мы с ним постоянно спорили, и поэтому сейчас не могло быть и речи о примирении. Встретившись у Брехта и холодно поздоровавшись, мы старались уже больше не замечать друг друга. Не знаю, было ли Брехту известно что-нибудь о наших взаимоотношениях. Помню только, что мой приход помешал их деловой беседе, и мы стояли несколько минут молча. Наконец вежливость Брехта не позволила ему дольше молчать, и он, несмотря на важность своего разговора с Бессоном, прервал его и жестом дал понять, чтобы тот удалился. Бессон ушел, и мы остались с Брехтом одни. Наша встреча, однако, прошла как-то официально, хотя со времени моего последнего посещения прошло уже много месяцев. Брехт сообщил мне, что его труппа теперь уже полностью укомплектована и что настало время передать ее в другие руки. Ему не терпится снова сесть за письменный стол. Брехт выглядел больным, цвет лица стал землистым, движения скупыми и вялыми. Я рассказал ему о репетициях, на которых присутствовал в Западном Берлине, и в основном об игре Ханны Хиоб (его дочери) и декорациях, приготовленных для спектакля Каспаром Неером.
Читать дальше