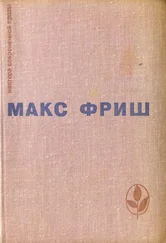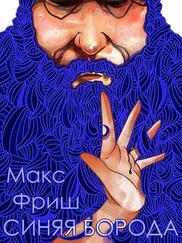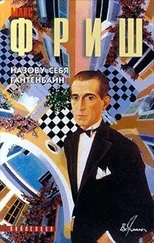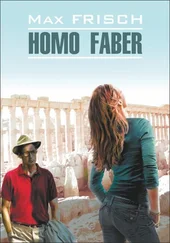1 Обожаю то, что меня сжигает (франц.).
В 1949 году завершилось наконец строительство бассейна по чертежам архитектора М. Фриша. Два года спустя, когда был закончен первый вариант "Графа Эдерланда" и М. Фриш получил годичную стипендию для стажировки в Соединенных Штатах, он навсегда оставил архитектуру, окончательно поменяв чертежную доску на пишущую машинку. Начиная с "Дон Жуана", написанного наполовину в Нью-Йорке, наполовину - по возвращении - в Цюрихе (1952) и романа "Штиллер" (1954), М. Фриш все больше и больше завоевывает европейское и мировое признание. Зрелое мастерство требует отточенности, признание предполагает высокую требовательность к себе. Интервалы между отдельными произведениями М. Фриша постоянно растут. За последние пятнадцать лет им написаны "только" три пьесы - "Бидерман и поджигатели" (1958), "Андорра" (1961) и "Биография" (1967) - и два романа: "Homo Faber" (1957) и "Допустим, меня зовут Гантенбайн" (1964). Любящий называть свои пьесы-притчи "моделями", М. Фриш сам представляет собой типичную "модель" современного популярного писателя - образом жизни, общественным темпераментом, даже внешним видом. Он по-прежнему питает глубокое пристрастие к новым странам и людям, много путешествует, выступая с интервью и докладами, в которых узкопрофессиональные вопросы уступают значительное место политическим, философским, этическим; М. Фриш мгновенно реагирует на любые важные события, происходящие в мире, его оценки не всегда бесспорны, но всегда продиктованы доброй волей. На страницах "Леттр франсэз" и "Вечерней Москвы", "Иностранной литературы" и "Нью-Йорк таймс" нередко появляется его лицо - высокий лоб, вскинутые раздумьем брови, лукавый прищур внимательных глаз за стеклами очков, неизменная трубка пересекает волевой подбородок - лицо-"модель", типичное лицо писателя "постнигилистической" эпохи.
В любой статье, очерке, монографии о М. Фрише, в любой сколь угодно малой энциклопедической справке о нем наряду с общими соображениями о том, что М. Фриш подвергает анализу кризис современной западной цивилизации, непременно будет названа и такая частность, как проблема идентичности. Названная проблема поставлена почти во всех известных нам произведениях М. Фриша. Неискушенный читатель, малознакомый с духовной ситуацией современного Запада и с интеллектуальным "этажом" современной западной литературы, будет, возможно, повергнут в недоумение. А между тем М. Фриш далеко не первый и не единственный, разумеется, но вполне самостоятельно нащупал здесь больной нерв нашего века.
Проблема идентичности неразрывными нитями связана с целым комплексом проблем буржуазного общества новейшей формации, и прежде всего с так называемым отчуждением личности. Феномен отчуждения, достигший апогея при фашизме, своими корнями уходит в самую природу капиталистических отношений. Как показал К. Маркс в "Философско-экономических рукописях", капиталистическое разделение труда очень быстро привело к возникновению понятия "абстрактного труда", вытеснившего труд конкретный, превратившего человека, производителя целостных продуктов, в "частичного работника", придаток машины, а в более широком смысле превратившего его в товар. Последствия этого явления не замедлили сказаться во всех областях жизни человека, значительно видоизменив его психологический облик. Узкий горизонт, периферийность труда человека, отлученного от лицезрения широкой перспективы, приводили к фетишизации абстрактностей, к пугливой и робкой зависимости от анонимных сил, персонифицированных в государстве. Слово и дело распались, пропасть между ними заполнили мнимости, кажимости, фантасмагорические навязчивые видения, сомнамбулические кошмары, составившие содержание сознания, ущемленного мерзостями капиталистического мироустройства. Сейсмографом этих явлений в художественной литературе явились романы Достоевского. Еще до этого они были зафиксированы в трактатах датского философа Киркегора, равно обнаружившего тенденцию буржуазного общества к "массовому безумию", осуществленному столетие спустя. Киркегор придал подмеченной им драме отчуждения в душе человека универсальные черты, прослеженные им вплоть до Сократа. Предложенный Киркегором выход - прорыв к личному мистическому богу через обретение "самости", собственной, несводимой к трафарету индивидуальной экзистенции, - при всей своей практической бесплодности нашел отклик среди многих мелкобуржуазных философов нашего века.
Читать дальше