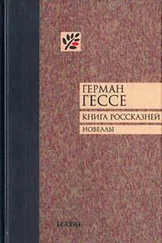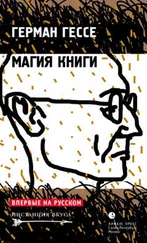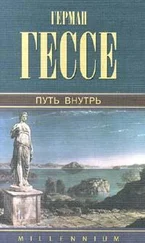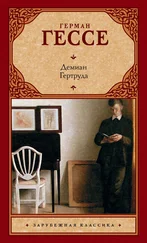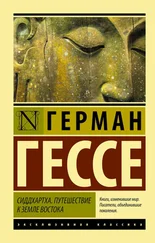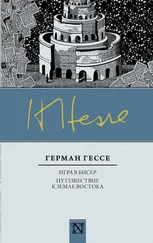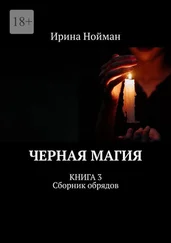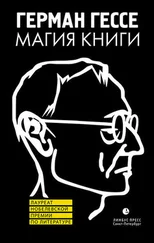К магико-символическому творчеству, воплощающему архетипический принцип "все во всем", стремится вся деятельность писателя Гессе, и игроки, оперируя всеобщими законами музыки и математики, отправляя "утонченный культ, unio mystica всех разрозненных звеньев universitas litterarum", вновь и вновь создают "ясный, упорядоченный мир чистых форм и формул, чистых, отшлифованных абстракций". Основополагающая идея Игры иллюстрируется в романе замыслом Альбрехта И. Бенгеля (1687-1752), одного из предтечей пиетизма и знаменитого толкователя Библии, - найти общий знаменатель для всех знаний, стянув их в одну точку, где произойдет взаимопроникновение знаний, объединение внешнего и внутреннего. Цель Игры - сохранение и эстафета духовной культуры в обстановке варварства. Но опасность здесь та же, что грозила Гессе накануне его кризиса, - в отчуждении от жизни, в возврате "заколдованности книгой", в отбрасывании к эстетизму и нарциссическому самосозерцанию, в изоляции от жизни в лоне творчества, и в этом драматизм действия этого "библиофильского" романа, единственный герой которого, как и прежде, - сам Гессе, выступающий прототипом или самопроекцией всех персонажей - фигур собственного сознания на разных стадиях его развития. Среди них и Томас Манн (Томас фон дер Траве), и Фридрих Ницше (Тегуляриус), и Теодор Фонтане (Бертрам), и Карл Изенберг (Карло Ферромонте), и Густав Грезер (Йог), и Якоб Буркхардт (патер Иаков), и многие другие; и сам Гессе (Старший Брат; мастер гадания по "Ицзин"; Александр, предводитель Совета Ордена; историк литературы Плинио Цигенхальс; хроникер). А географические и топографические прототипы "Игры", как и во всех произведениях писателя, - более или менее мифологизированные места жизни и творчества Гессе. Все персонажи идейно группируются вокруг двух центральных персонажей - Йозефа Кнехта (Мастера Слуги - в мифологическо-лингвистической шифровке) и его антипода Плинио Дезиньори (Господина), символизирующих внутреннюю (духовную) и внешнюю (житейскую) биографии Гессе. Их отношения столь же противоречивы и конфликтны, как отношения Касталии и окружающего "светского" мира, и действие романа становление Кнехта мастером Игры, а Дезиньори - господином жизни. Оба исчерпывают сполна смысл своих существований и движутся навстречу друг другу, каждый влекомый тем, что недостает другому. Это ситуация финала "Паломничества". В происходящем в сознании Кнехта-Гессе споре - в романе это беседы с патером Иаковом и с Тегуляриусом - одерживает победу переработанный Гессе буркхардтовский историзм: касталийцы не могут быть изолированы от мира; культура - лишь одно из многих проявлений истории, в том числе и истории души; признание жизни означает признание как физического, так и духовного; человеческие дела требуют и рефлексии и действия; за кажущимся хаосом реальности властвуют порядок и смысл. Это победа над ницшевской теорией "облагораживания через вырождение", устранение средостения между книгой и жизнью. И Кнехт "перешагивает пределы" - покидает вырождающийся книжный мир, чтобы, подобно гегелевскому духу, порождающему связку из себя самого, уйти в жизнь, чтобы стать посредником между "отцовской" духовностью и "материнским" хаосом, чтобы "самому жить собственной жизнью" - жизнью жертвенной самоотдачи и спасения людей. Эта высшая цель Гессе символизируется архетипической парой "взрослого и ребенка" (подростка Германа и "серенького человечка"; Гермеса и Диониса из комнатки Гессе в Тюбингене; Верагута и его умирающего сына; Сиддхартхи и его сына от Камалы; св. Христофора и маленького Иисуса с фрески из "Паломничества"): Кнехт решает стать учителем сына Дезиньори - Тито. В первый день их встречи в горном имении Дезиньори Кнехт гибнет на восходе солнца в водах озера, как бы перерождаясь в Тито в лучистой конфигурации архетипов "самости" - солнца, гор, мироздания и материнского лона.
В "Игре в бисер" - итоге своей жизни-творчества - Гессе перевернул процесс психоаналитической индивидуации, представив мир творчества (чтения-писательства) как инициацию не во внутренний, а во внешний мир; отделил идеал Я от "самости", а "самость" - от книжного комплекса, поместив ее, своенравно противореча своему сознанию интроверта, вовне, возгласив единство всех форм реальности - магическое единство духовной и материальной культуры.
"Игру в бисер", несмотря на все усилия и ухищрения Петера Зуркампа, в фашистской Германии печатать отказались, были объявлены нежелательными "Под колесом", "Степной волк", "Библиотека всемирной литературы" и "Нарцисс и Златоуст". В 1943 году роман вышел в Швейцарии, в цюрихском издательстве "Фрец и Васмут", а в Германии он оставался официально запрещенным до мая 1945 года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Герман Гессе - Степной волк. Нарцисс и Златоуст [сборник]](/books/32827/german-gesse-stepnoj-volk-narciss-i-zlatoust-sbo-thumb.webp)