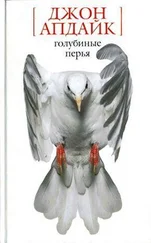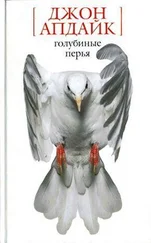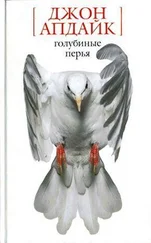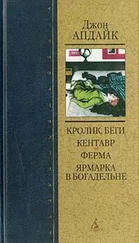Улица Перспективная. Названа так из-за вида, который когда-то открывался отсюда, но сейчас все застроено, загорожено. Здесь я сверну: указанный в телефонной книге адрес Верны привел меня именно на эту бесперспективную улочку. До нее надо было пройти несколько кварталов. Иные строения еще претендовали на то, чтобы называться домами: крохотные газоны перед фасадами, цветочные клумбы с распускающимися бутонами красных и желтых хризантем, крашеные религиозные изваяния (Пречистая Дева в небесно-голубом одеянии и Младенец на руках с глинистым светло-коричневым личиком). Но большинство построек уже ни на что не претендовали: дворы по колено заросли сорной травой, где, как на свалке, валялись пустые бутылки, банки, коробки. Фасады облезли, хотя редкая занавеска или горшок с живым цветком говорили, что здесь еще живут люди. Домовладельцы давно сгинули либо по причине недостатка средств, либо в результате бухгалтерской ошибки, сгинули, бросив свою собственность на произвол судьбы, и брошенные дома выглядели словно вышвырнутые на улицу пациенты психушек. Некоторые строения были совсем необитаемыми, конечно же, разграблены и пришли в полный упадок. Двери и окна заколочены фанерой, но оставались еще черный ход и подвальные окна. Эти убогие сооружения давали приют наркоманам, пьяницам, бездомным, бродягам. Даже китайский ясень между домами и акация, высаженная вдоль тротуара, казались напуганными: нижние ветви поломаны, кора безжалостно изрезана и содрана.
Я пошел дальше и через пять минут оказался у новостройки, где жила Верна. Я проезжал мимо раз десять за десять лет моего пребывания в городе. Когда-то здесь располагалось четыре квартала запущенных домов для рабочего люда, но в эпоху президентства Кеннеди их снесли и отстроили скопище башен из желтоватого кирпича с недорогими квартирами. Страсть архитекторов к взаимосвязанным комплексам вылилась в полукруглые ряды домов, поставленные друг против друга, причем внутри каждого полукружия размещалась либо парковка, либо площадка для малышни, либо небольшой сквер со скамейками для стариков. Строители видели здоровый, экологически чистый микрорайон, но их видение было омрачено жителями. На травяных газонах протоптаны дорожки, спрямляющие путь, кусты поломаны, скамейки растащены или разбиты, несколько баскетбольных стоек словно какими-то злобными гигантами погнуты до самой земли. Создавалось впечатление перенаселенности, беспорядочного сгустка человеческой энергии, энергии яростной, не способной оставаться в замкнутом пространстве. Детские игровые площадки, первоначально оснащенные легкими качелями и каруселями, постепенно превратились в кладбища металлолома, где вместо надгробий и крестов — старые шины от грузовиков и сточные бетонные трубы. По обочинам тротуаров, у стен домов сверкали грязноватые груды битого стекла. «Se prohibe estacionar» — испаноязычное запрещение ставить машины. Другое объявление предупреждало, что «владельцы брошенных и незарегистрированных автомобилей подвергаются штрафу». В этот час кругом было пусто, не видно ни одного человека. Никем не замеченный и словно бы зачарованный, я зашел в подъезд дома номер 606. Замки в дверях были распотрошены или вообще отсутствовали, их заменяли цепочки, продернутые сквозь дыры. Несло пещерным запахом мочи, сырой штукатурки и краски — ее, чувствовалось, неоднократно наносили и смывали, наносили и смывали. Сквозь эту сложную смесь ароматов вела лестница. «У Текса что надо» — гласила свежая надпись, сделанная пульверизатором на стене, а внизу подпись в завитушках: «Марджори». На следующей площадке тот же спрей в том же стиле сообщал, что «Марджори сосет», и подпись — «Текс». Размашистое «с» в конце выдавало надежды автора на светлое будущее.
В подъезде над прорезью в почтовый ящик 311 я увидел выведенную карандашом фамилию — «Экелоф». На третьем этаже тянулся длинный пустой коридор, хотя углубления и отверстия в стенах свидетельствовали, что когда-то здесь висели картинки и другие домашние вещи. Вдруг я спохватился: номера квартир возрастали четными числами — повернул назад и подошел к двери, где цифры 3, 1 и 1 на зеленой краске были едва различимы, как привидения, и к тому же продырявлены гвоздями. Моя рука поднялась было, чтобы постучать, и тут из-за двери донесся детский лепет. Ребенок хныкал и, заливаясь слезами, лепетал что-то на своем забавном языке. Рука у меня замерла, потом неуверенно опустилась. Из квартиры слышалось также пение. Пела женщина. Пела громко, вызывающе. Я постучал.
Читать дальше