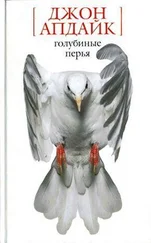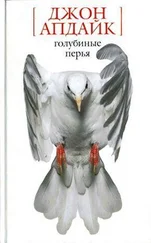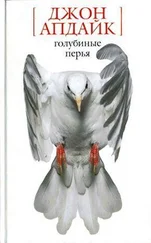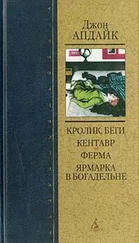д.), парень зацепился карманом своей куртки за подлокотник и, рассыпаясь в извинениях, долго вертелся, прежде чем устроиться. Кисти рук и запястья были у него какие-то ненормальные, огромные. Отнюдь не зеленый юнец, подумал я, на вид ему под тридцать. Вечных студентов у нас в кампусе пруд пруди: они одеваются по молодежной моде и проявляют хитроумную изобретательность начинающих, словом, ведут себя так, словно учение — их постоянная оплачиваемая профессия. Иные седеют в наивной погоне за знаниями и даже порождают пышную поросль полуголодного потомства.
— Что вы называете неприятностями? — При всей неуклюжести и стеснительности в моем посетителе было что-то вызывающее и дерзкое, даже наглое. — Расу отца ребенка Верны, то обстоятельство, что он пустился в бега, или отвратительное обращение с ней со стороны родителей?
Обидно было слышать такое. В расовом отношении народ в университете терпимый.
— Раса, конечно, вещь очень важная... при прочих равных. Поскольку, однако, прочие не равны, я действительно удивился, что девочка решилась заиметь ребенка.
Мой собеседник заерзал на стуле, словно ему мешал туго набитый бумажник в заднем кармане. Я потянулся за трубкой.
— М-м... — замычал он.
Какую радость дарит трубка! До чего приятно выбить ее, прочистить, снова набить табаком, примять его, поднести зажженную спичку... Первые затяжки, которые делаешь, втягивая щеки, то драматическое зрелище, когда пламя спички всасывается в чашечку, пропадает, потом опять вспыхивает. И наконец, несказанный аромат во рту, пробирающий до глубины души дымок, который не спеша выпускаешь сквозь губы. Странное дело: когда я смотрю на других курящих трубку, их гримасы и ужимки кажутся мне искусственными, театральными, даже отталкивающими. И тем не менее... с тех пор как несколько лет назад я отказался от сигарет — подавал Эстер пример, которому она не последовала, — трубка стала моей зацепкой на отвесной скале жизни, моим укрытием, моим утешением.
— Поняв, что беременна, — скособочившись, сообщил мне собеседник, — Верна из религиозных соображений решила оставить ребенка.
Его лицо — на редкость вытянутое, с двумя словно накрашенными точками прыщей, с нескладной порослью под нижней губой, особенно заметной в свете высокого окна за моей спиной, — выражало явное недовольство моим курением. У нынешнего поколения, утратившего инстинктивный интерес к иудейско-христианской обрядности, потаенное религиозное чувство выливается в действия по защите окружающей среды, начиная со скромного требования отвести в ресторанах места для некурящих и кончая бурными демонстрациями у ядерных объектов.
— Из религиозных соображений? — повторил я, воинственно попыхивая трубкой.
— Конечно. Чтобы не убивать живое существо.
— Значит, вы принадлежите к тому же духовному направлению, что и наш президент?
— Я не говорю, что принадлежу. Я говорю, что решение Верны не делать аборт было продуманным и прочувствованным, правда, теперь...
— Что — теперь? — Табак в трубке разгорелся неровно, с краю. Я заметил, что скашиваю глаза на чашечку — еще одна раздражающая привычка любителя трубки.
— Теперь у нее не все гладко. Девочке полтора годика, в таком возрасте за ребенком нужен глаз да глаз. Она непоседа. Верна говорит, с ума можно сойти, лопочет без умолку, хватается за все подряд, липнет к ней. А ты хочешь, говорю я ей, чтобы ребенок пошел устраиваться на работу? Раза два в неделю я стараюсь заглядывать к ней, но вот новостройка, где она живет... Не сочтите меня расистом...
— Да? Продолжайте, продолжайте.
— Нехороший там дом. И друзей настоящих у нее нет.
— Странно, — протянул я. Трубка наконец разгорелась как следует. — Сама решила приехать сюда.
— Как вам объяснить... Не знаю, насколько вы в курсе дела...
— Почти не в курсе. Я был совсем ребенком, когда отец развелся с матерью и женился вторично. Его связь с другой женщиной началась, очевидно, когда мама была беременна мной. Новая жена родила ему девочку — еще года не прошло после моего рождения. Я виделся с сестрой, точнее, с сестрой по отцу, очень редко, только когда навещал отца, а во время летних каникул иногда гостил, должен признаться, по месяцу. Так что мы с Эдной росли, можно сказать, порознь. Потом она вышла замуж, но семьи я ее не знал: все они жили в Кливленд-Хайт. Ее муж, отец Верны, — обыватель до мозга костей, она вам, наверное, говорила, бесчувственная скотина из норвежцев. Зовут его Пауль Экелоф. Он работал инженером, а сейчас какой-то администратор на сталелитейном заводе под Сент-Луисом... Однако зачем я вам все это рассказываю?
Читать дальше