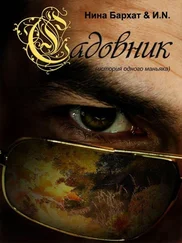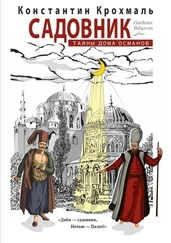— Это вами не прочувствовано! — отшил пахаря Винокуров.
— Как так?! — вздыбился певец всесоюзной житницы. — А ваши многозначительные поэзы о войне — они, что ли, прочувствованны?
Но свой раунд чудила проиграл. В пику зарвавшемуся наглецу, мэтр огулом пригрел нас троих. Овчинникова (муж-оформитель обещал оплачивать ей челночные поездки) просилась на заочный, Леля — на дневной.
— Вас бы я, пожалуй, взял… — пухлой ладошкой покрутил в воздухе костяной божок и вопросительно глянул на меня.
Кто-то накануне втемяшил мне, будто без трудового стажа на стационар ни в жисть не пролезть. Потому я и залепетал про заочное.
— Будь вы москвич — я не видел бы препятствий, — развел руками почетный член Гонкуровской академии, — а так… Могу предложить только дневное…
— Он хочет, хочет, Евгений Михайлович! Просто ни черта в этом не фурычит! — затараторила Кошкина, взваливая меня на закорки: весталка санчасти средь ухающих фугасов.
— Вот и замечательно! — подытожил мастер, явно удовлетворенный столь лапидарным объяснением.
Фиктивную справку — якобы два года я спасал утопающих на лодочной станции — мне без особых проблем добудет отец.
Винокурова нам присоветовал нимфчанин Ян Пробштейн, заядлый теннисист, перелагатель Элиота. Он же и приютил временно нашу разношерстную команду. Жена его, сексапильная татарская дива, была на голову выше суженого. Ян, пыхтевший культуртрегером при родном домоуправлении, обладал увесистой связкой ключей и потому разместил землячек в одной из пустовавших хрущоб. Я же остался на оттоманке в его крохотной гостиной. Сдается мне, хозяин на ночь умышленно приотворял дверь из спальни: отзвучия супружеских ночных кувырканий барочно обрамляли его гордое переводческое «эго»[1]…
Но и я не отставал: на глазах у Лели закрутил роман с Сашенькой. Мешковатый флирт уныло дотлевал в Минске. Возвратясь туда в подвешенном состоянии, я зыбил веслами поверхность, словно размешивая сахарные облака в чайной пиале Заславльского водохранилища. Глупышка втюрилась до такой степени, что решилась угостить меня ростбифом в ресторане «Потсдам». Там-то я и лишился джентльменского звания! Впрочем, она, вслед за старшей сестрой, вполне конкретно облюбовала мой «приятный райончик»… Отца, Вадима, Сашенька решительно не понимала, осуждала за регулярные попойки и болтовню об искусстве. Последняя наша встреча состоится через год, в поезде «Минск-Москва»: она выучит чешский и устроится экскурсоводом.
Однако вернемся к Яну. Рифмы мои он удостоил похвал, но — дабы я чересчур не заносился — пястью приплюснул щенячье самомнение:
— Спокойно!
И отвел нас на семинар к Козловскому, где состоял старостой, хоть и держал при этом фигу в кармане. Об омонимических сальто поводыря Гамзатова я был осведомлен лучше моих спутниц. Еще отроком отправил ему письмецо: мол, от обложки «Созвездия близнецов» стеллаж в моей комнате порозовел… (Воображаю, как он расчувствовался!) В постскриптуме я указал пикантную подробность: «Знайте же, что нас с Вами, помимо страсти к точным рифмам, роднит еще кое-что…» Верх кретинизма — подогревать в своей юной душе инстинкт мафиозности, понятия не имея о том, что справочник Союза писателей по швам трещит от еврейских фамилий!
Естественно, Яков Абрамович выплыл ко мне в порфире базилевса, посулил замолвить словцо проректору («Сидоров наполовину то же, что и вы!» — прибегнул он в свою очередь к игривому иносказанию). В палестре его сиживали Санчук и Веденяпин — меня, серой мышки, должно быть, не приметившие. Какая-то заторможенная еврейская дама в повойнике презентовала анемичную брошюрку. Какой-то разухабистый соловей-разбойник в пух и прах разнес ее ламентации.
— Что вы гоношитесь, люди живут по-разному… — вяло отбивалась от его нападок поэтесса.
— Ох, уж эти графоманы! — заговорщицки подмигнул Козловский, наскоро соображая мне рекомендацию, когда все разошлись.
Имел ли он в виду своего визави, участников ли заседания, или себя любимого — кто теперь ответит?
Впоследствии я натыкался на него в коридоре «Юности».
— Больно уж этот Коркия похож на бердичевского грузина! — ворчал живчик, досадуя на отсрочку публикации.
Умер Арсений Тарковский — и на панихиде, в Большом зале ЦДЛ, Яков Абрамович вальяжно переминался на сцене. Ораторствуя, Лев Озеров затронул тему нравственного неприятия усопшим избыточно пестрых рифм: «Не высоко я ставлю силу эту…» Козловский — я уловил! — в эту секунду недоуменно поморщился.
Читать дальше