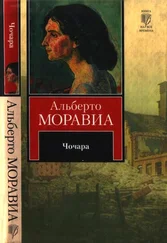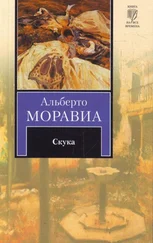Я промолчал. Ход рассуждений Рейнгольда был на редкость гладок и полностью отвечал его стремлению превратить "Одиссею" в психоаналитическую драму. Но как раз эти-то его попытки, в которых я видел профанацию "Одиссеи", и вызывали у меня глубокое отвращение. У Гомера все было просто, чисто, благородно, наивно, даже само хитроумие Одиссея, которое в поэтическом плане предстает лишь как проявление его умственного превосходства. В интерпретации же Рейнгольда все низводилось до уровня современной драмы с претензией на нравоучительность и психологизм. Между тем Рейнгольд, весьма довольный своим объяснением, подходил к концу.
- Как видите, Мольтени, фильм уже готов во всех деталях... Нам остается лишь написать сценарий. Я резко прервал Рейнгольда:
- Послушайте, Рейнгольд, но эта ваша интерпретация мне вовсе не нравится!
Он широко раскрыл глаза, пожалуй, более удивленный моей горячностью, чем несогласием.
- Она вам не нравится, мой дорогой Мольтени? А чем же она вам не нравится?
Я начал говорить сначала с усилием, но постепенно голос мой зазвучал увереннее:
- Ваше толкование мне не нравится потому, что оно:] представляет полную фальсификацию подлинного характера самого Улисса... У Гомера он действительно человек проницательный, рассудительный, если хотите, даже хитрый, однако никогда не забывающий о чести и достоинстве... Он никогда не перестает быть героем, то есть доблестным воином, царем, верным мужем. А при такой трактовке, как ваша разрешите сказать вам это, дорогой Рейнгольд, вы рискуете превратить его в человека, лишенного чести и чувства собственного достоинства, в человека, не вызывающего уважения... Уж не говоря о том, что вы слишком далеко отходите от подлинника...
Я видел, что по мере того, как я говорил, у Рейнгольда постепенно сходила с лица его широкая улыбка, она все таяла и таяла, пока совсем не исчезла. Потом он, не стараясь, как обычно, скрыть свой немецкий акцент, резко сказал:
- Дорогой Мольтени, разрешите заметить вам, что вы, как всегда, ничего не поняли.
- Как всегда? обиженно повторил я с подчеркнутой иронией.
- Да, как всегда, подтвердил Рейнгольд. И я вам сейчас объясню почему... Слушайте меня внимательно, Мольтени.
- Можете не сомневаться, я слушаю вас внимательно.
- Я вовсе не собираюсь превращать Одиссея, как вы полагаете, судя по вашим словам, в человека, лишенного чувства собственного достоинства, чести, не заслуживающего уважения... Я просто хочу сделать его таким, каким он предстает в "Одиссее". Что представляет собой Улисс в поэме, каким мы его там видим? В поэме это просто цивилизованный человек... Среди прочих героев, людей нецивилизованных, Одиссей единственный человек, приобщенный к цивилизации. В чем же это проявляется у Одиссея? Да в том, что он свободен от предрассудков, в том, что он неизменно прислушивается к голосу разума, даже и в тех случаях, когда речь идет, как вы выражаетесь, о чести, о собственном достоинстве, уважении... В том, наконец, что он умен, объективен, я бы даже сказал, обладает умением мыслить аналитически... Цивилизованность, продолжал Рейнгольд, разумеется, имеет свои недостатки... Одиссей очень быстро забывает, например, о том значении, какое придают так называемым вопросам чести люди нецивилизованные... Пенелопа же человек нецивилизованный, это женщина, которая чтит традиции старины, прислушивается только к тому, что подсказывают ей инстинкт, горячая кровь, ее гордость... Теперь будьте особенно внимательны, Мольтени, и постарайтесь понять, что я
хочу сказать... Всем тем, кто нецивилизован, цивилизация может показаться да нередко и кажется моральным разложением, безнравственностью, беспринципностью, цинизмом... Такие обвинения против цивилизации выдвигал, например, Гитлер, который, несомненно, был человеком нецивилизованным... Он ведь тоже немало разглагольствовал о чести... Но мы-то теперь знаем, что представлял собой Гитлер и какова была его честь... Одним словом, в "Одиссее" Пенелопа олицетворяет собой варварство, а Одиссей цивилизацию... Знаете ли, Мольтени, я считал вас цивилизованным человеком, а вы, оказывается, рассуждаете, как эта варварка Пенелопа!
Последние слова он произнес с широкой, ослепительной улыбкой, было видно, что, сравнив меня с Пенелопой, Рейнгольд остался очень доволен этой своей остротой. Но именно это сравнение, сам даже не знаю почему, было мне особенно неприятно. Я побледнел от бешенства и сказал изменившимся голосом:
Читать дальше