6
На четвертом году нашего многоречиво-лаконичного контакта я получил такое послание: "Парнишка, последняя история была особенно интересной. Спасибо. Ханна."
Бумага была в линейку -- вырванная из школьной тетради страница с ровно обрезанным краем. Послание располагалось в самом верху страницы и занимало три строки. Оно было написано синей, мажущей шариковой ручкой. Ханна сильно нажимала на нее, выводя буквы так, что написанное выдавилось на обратной стороне. Адрес тоже был выведен с силой; приглядевшись, его отпечаток четко можно было разобрать в верхней и нижней половинах сложенного вдвое листа.
На первый взгляд можно было подумать, что это детский почерк. Но то, что в почерке детей бывает неуклюжим и беспомощным, здесь было насильственным. Здесь так и проглядывало сопротивление, которое нужно было преодолеть Ханне, чтобы соединить линии в буквы, а буквы в слова. Детская рука хочет отклониться то туда, то сюда и должна обязательно придерживаться связной колеи, прокладываемой почерком. Рука Ханны никуда не хотела отклоняться и должна была испытывать какие-то внутренние толчки для продвижения вперед. Линии, образовывавшие буквы, начинались все время сызнова, при движении руки вверх, при движении руки вниз, перед закруглениями и завитками. И каждая буква завоевывалась заново, располагалась то прямо, то косо и зачастую была также разной высоты и ширины.
Я прочел послание и весь наполнился радостью и ликованием. "Она пишет, она пишет!" За все эти годы я прочитал о неграмотности все, что только можно было найти. Я знал, какую беспомощность испытывают неграмотные люди в повседневных жизненных ситуациях, при нахождении нужной улицы, нужного адреса или при выборе какого-нибудь блюда в ресторане, я знал, какая нерешительность одолевает их, когда они следуют заданным образцам и совершают привычные, проверенные действия, я знал об огромной энергии, которая уходит у них на то, чтобы сберечь в тайне свое неумение читать и писать, и которую это неумение забирает у самой жизни. Неграмотность -- это духовное несовершеннолетие. Найдя в себе мужество научиться читать и писать, Ханна сделала шаг от несовершеннолетия к совершеннолетию, просветительский шаг.
Я рассматривал почерк Ханны и видел, сколько силы и борьбы стоило ей написание этих строк. Я гордился ею. Одновременно мне было печально за нее, печально за ее поздно начавшуюся, неудачную жизнь, печально за опоздания и неудачи жизни вообще. Я думал о том, что если время упущено, если кто-то слишком долго от чего-то отказывался, если кому-то слишком долго в чем-то отказывали, то это что-то приходит уже слишком поздно, даже тогда, когда в итоге налегаешь на него со всей силой и встречаешь со всей радостью. Или понятия "слишком поздно" не существует, а существует только "поздно", и не лучше ли во всяком случае "поздно", чем "никогда"? Не знаю.
За первым посланием стали приходить следующие в непрерывной последовательности. Это всегда были короткие строки, выражение благодарности, желания получить еще что-нибудь из творчества того или иного автора, или ничего не слышать больше о нем, замечание о каком-нибудь авторе, стихотворении, рассказе или персонаже из того или иного романа, наблюдение из тюремной жизни. "Во дворе уже цветут розы", или: "Мне нравится, что этим летом так много гроз", или: "В окно я вижу, как птицы собираются в стаи, чтобы лететь на юг" -- нередко только сообщения Ханны побуждали меня обратить внимание на розы, летнюю грозу или стаи птиц. Ее замечания относительно литературы зачастую были на удивление меткими. "Шницлер лает, Штефан Цвейг -- дохлая собака", или: "Келлеру нужна женщина", или: "Стихи Гете как маленькие картинки в красивых рамках", или: "Ленц наверняка пишет на пишущей машинке". Поскольку она ничего не знала об авторах, она предполагала, что они были ее современниками, если, конечно, это не исключалось какими-нибудь слишком явными признаками. Я был поражен, как много старых произведений в самом деле читается так, словно они были написаны совсем недавно, и тот, кто не знаком с историей, в первую очередь может принять жизненный уклад былых времен за жизненный уклад каких-нибудь дальних стран.
Я Ханне никогда не писал. Но я продолжал читать ей на кассеты дальше и дальше. Когда я уехал на год в Америку, я присылал ей кассеты и оттуда. Когда я был в отпуске или когда у меня было особенно много работы, чтение на очередную кассету могло затянуться; я не устанавливал твердого ритма записи, а отсылал кассеты или каждую неделю, или каждые две недели, или только через три-четыре недели. То, что Ханне, после того, как она сама научилась читать, мои кассеты могли стать ни к чему, меня не волновало. Пусть она себе читает, думал я. Чтение вслух было моим способом обращения к ней, разговора с ней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

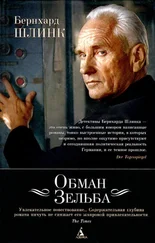
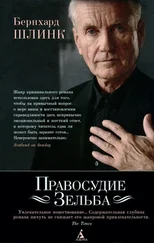






![Бернхард Шлинк - Летние обманы [litres]](/books/406918/bernhard-shlink-letnie-obmany-litres-thumb.webp)

