Отец выслушал мою проблему, представленную мной сначала абстрактно и уточненную потом рядом примеров.
-- Это как-то связано с процессом, да? -- спросил он и, покачав головой, дал мне понять, что не ждет от меня ответа, не собирается допытываться от меня большего, не хочет знать ничего сверх того, что я сам готов был рассказать ему.
Потом он сидел, склонив голову набок, обхватив руками подлокотники кресла, и размышлял. Он не смотрел на меня при этом. Я же разглядывал его, его седые волосы, его как всегда плохо выбритые щеки, его резко очерченные морщины, пролегшие между глазами и шедшие от крыльев носа к уголкам рта. Я ждал.
Когда он снова заговорил, он начал издалека. Он стал излагать мне свои мысли о личности, свободе и достоинстве, о человеке как субъекте и о том, что его нельзя делать объектом.
-- Помнишь, как, будучи совсем маленьким, ты нередко злился, когда мама лучше тебя знала, что тебе можно, а что нет? Уже то, насколько далеко позволительно заходить в этом плане с детьми, является настоящей проблемой. Это проблема философского характера, но философии нет дела до детей. Она отдала их на попечение педагогики, где они плохо устроены. Философия забыла детей, -- улыбнулся он мне, -- забыла навсегда, а не только на время, как я вас.
-- Но...
-- Но, что касается взрослых -- тут я решительно не вижу никакого оправдания тем случаям, когда одни люди ставят то, что они считают подходящим для других, выше того, что эти другие считают подходящим сами для себя.
-- Даже тогда, когда другие были бы позже только рады этому?
Отец покачал головой.
-- Речь здесь идет не о радости, а о достоинстве и свободе. Уже малышом ты ощущал эту разницу. Тебе было совсем не по нутру, что мама всегда была права.
Сегодня я с любовью вспоминаю тот наш разговор. Я забыл его и он всплыл в моей памяти только после смерти отца, когда я стал выискивать в осадке своих воспоминаний добрые встречи, события и переживания, связанные с ним. Когда я поднял этот разговор на поверхность, я перебирал его детали с удивленным и радостным чувством. Разговаривая же тогда с отцом, я был поначалу озадачен смесью абстракции и наглядности, которую он преподносил мне. Но в конечном итоге я вывел из сказанного им, что мне не следует идти к судье, что мне вообще нельзя говорить с ним, и от этого у меня на душе полегчало. Отец заметил это.
-- Что, в таком виде философия тебе нравится больше?
-- Ну... Просто я не знал, нужно ли в ситуации, которую я описал, что-то предпринимать, и, по сути дела, был не очень-то рад перспективе предпринимать что-нибудь, а если, как выходит, предпринимать тут вообще ничего нельзя, то это...
Я не знал, что сказать. То это, что -- снимает у меня камень с плеч? Успокаивает меня? Каким-то приятным образом на меня действует? Во всем этом не чувствовалось морали и ответственности. "Это мне нравится" -- говорило о морали и ответственности, но я не мог сказать, что предложенное решение мне просто нравилось, что оно давало мне больше, чем только снимало камень с моих плеч.
-- Это тебе приятно? -- предложил отец.
Я кивнул головой и пожал плечами.
-- Нет, в целом у твоей проблемы нет приятного решения. Конечно, приходится действовать, когда описанная тобой ситуация является ситуацией возросшей или принятой на себя ответственности. Если ты знаешь, что действительно будет на пользу другому, а он закрывает на это глаза, то нужно попытаться раскрыть их ему. Нужно оставить за ним последнее слово, но нужно поговорить с ним, именно с ним, а не с кем-нибудь другим за его спиной.
Поговорить с Ханной? Что я должен был сказать ей? Что я раскрыл ложь ее жизни? Что она собиралась принести всю свою жизнь в жертву этой бестолковой лжи? Что ложь не стоила жертвы? Что она должна бороться за то, чтобы не сесть в тюрьму на длительный срок, чтобы потом у нее еще оставалось время многое успеть в своей жизни? А что, собственно, успеть? Много или мало -что она должна была делать со своей жизнью? Мог ли я забрать у нее ее ложь, не открывая перед ней какой-нибудь жизненной перспективы? Я не знал ни одной сколь-нибудь длительной, и я также не знал, как мне подойти к Ханне и сказать ей, что все-таки будет правильно, если после всего совершенного ею ее жизненной перспективой на какое-то время станет тюрьма. Я не знал, как я должен был подойти к ней и сказать ей что-нибудь. Я вообще не знал, как мне приблизиться к ней.
Я спросил отца:
-- А что, если с этим другим поговорить нельзя?
Он с сомнением посмотрел на меня, и я сам понял, что мой вопрос был из разряда второстепенных. Заниматься моральными изысканиями было уже ни к чему. Я должен был решаться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

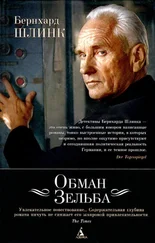
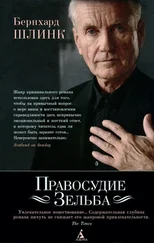






![Бернхард Шлинк - Летние обманы [litres]](/books/406918/bernhard-shlink-letnie-obmany-litres-thumb.webp)

