Пока очередь не дошла до бойкой на язык гусыни:
-- А вы спросите вот эту!
Она показала пальцем на Ханну.
-- Это она написала рапорт. Она во всем виновата, она одна, и своим рапортом она хотела прикрыть это и еще и нас очернить.
Председатель спросил Ханну. Но это было в конце. Сначала же он спросил:
-- Почему вы не открыли двери?
-- Мы... Мы были...
Ханна искала правильный ответ.
-- Мы не знали, что нам еще оставалось делать в той ситуации.
-- Вы не знали, что вам оставалось делать в той ситуации?
-- Нескольких из нас убило, а другие удрали. Они сказали, что отвезут раненых в лазарет и вернутся обратно, но они знали, что не вернутся, и мы тоже это знали. Может быть, они поехали вовсе не в лазарет, раненые были не в таком уж плохом состоянии. Мы бы тоже поехали с ними, но они сказали, что раненым нужно место, и потом... и потом они все равно не хотили тащить за собой столько женщин. Я не знаю, куда они поехали.
-- И что вы делали дальше?
-- Мы не знали, что нам делать. Все было так быстро, дом пастора горел и башня на церкви, и солдаты с машинами только что были здесь, и теперь их уже не было, и мы вдруг оказались одни, наедине с женщинами в церкви. Нам оставили какое-то оружие, но мы не умели с ним обращаться, и даже если бы мы умели, что бы нам это дало, нам, какой-то горстке? Как мы должны были охранять такую колонну? Она растягивается далеко, такая колонна, даже если ее постоянно сгонять, и для охраны на таком длинном участке, тут нужно куда больше охранников, чем наша кучка.
Ханна сделала паузу.
-- Потом начались крики и они становились все сильнее. Если бы мы открыли двери и все бы выбежали...
Председатель выждал несколько секунд.
-- Вы боялись? Вы боялись, что женщины-заключенные нападут на вас?
-- Что они нап... нет, но как бы мы могли опять навести среди них порядок? Там бы поднялась такая суматоха, с которой бы мы вовек не справились. А если бы они еще попытались бежать...
Председатель снова подождал, но Ханна не договорила.
-- Вы боялись, что вас, в случае побега заключенных, арестуют и приговорят к расстрелу?
-- Мы просто не могли дать им убежать! Мы же отвечали за них... Я имею в виду, мы же все это время охраняли их, в лагере и потом в колонне, в этом ведь был смысл -- мы охраняем, чтобы они не убежали. Поэтому мы не знали, что нам делать. Мы также не знали, сколько женщин доживет до следующего дня. Столько уже умерло, а те, которые еще были живы, были совсем, совсем слабыми...
Ханна заметила, что тем, что она говорит, она не очень-то себе помогает. Но она не могла говорить ничего другого. Она могла только пытаться говорить то, что она уже сказала, лучше, пытаться объяснять лучше и описывать лучше. Но чем больше она говорила, тем хуже выглядела ее ситуация. Не зная, как ей быть, она опять обратилась к председателю:
-- А вы бы как поступили?
Но на этот раз она сама знала, что не получит от него ответа. Она и не ждала ответа. Никто его не ждал. Председатель молча качал головой.
Если вдуматься, то ситуация растерянности и беспомощности, описанная Ханной, не была такой уж трудной для представления. Ночь, холод, снег, огонь, крики женщин в церкви, исчезновение тех, кто до этого отдавал надзирательницам приказания и сопровождал их -- разве это была простая ситуация? Но могло ли это понимание сложности ситуации поставить в какое-либо количественное соотношение весь ужас того, что сделали или в данном случае также не сделали обвиняемые? Как будто речь шла об автомобильной аварии с телесными повреждениями и полным выходом машины из строя, происшедшей на пустынной дороге холодной зимней ночью, когда не знаешь, что тебе делать? Или о конфликте между двумя чувствами долга, и то и другое из которых требует от тебя твоего участия? Да, так можно было представить себе то, что описывала Ханна, но суд не хотел этого делать.
-- Скажите, это вы написали рапорт?
-- Мы вместе обдумывали, что нам писать. Мы не хотели ничего наговаривать на тех, кто удрал. Но мы также не хотели, чтобы и на нас падала какая-то тень.
-- Значит, вы говорите, что думали вместе. Кто же писал?
-- Ты!
Другая обвиняемая опять ткнула пальцем в сторону Ханны.
-- Нет, я не писала. Разве это так важно, кто писал?
Один из прокуроров предложил с помощью экспертизы сравнить почерк рапорта и почерк обвиняемой Шмитц.
-- Мой почерк? Вы хотите взять...
Председательствующий судья, прокурор и адвокат Ханны вступили в дискуссию по поводу того, сохраняет ли почерк свою идентичность на протяжении более чем пятнадцатилетнего отрезка времени и можно ли ее теперь с точностью установить. Ханна слушала их и несколько раз пыталась что-то сказать или спросить, и приходила во все большее беспокойство. Потом она сказала:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

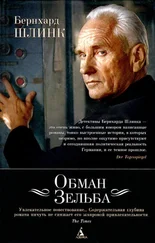
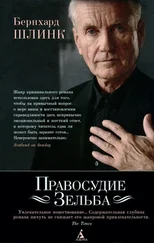






![Бернхард Шлинк - Летние обманы [litres]](/books/406918/bernhard-shlink-letnie-obmany-litres-thumb.webp)

