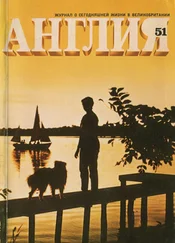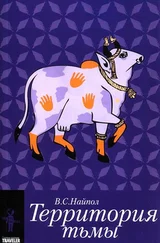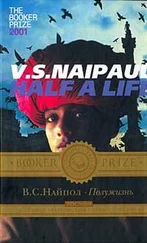И точно так же, как после долгой и опасной езды на автомобиле перед засыпающим водителем все вьется и вьется лента дороги, та доля секунды, пережитая с девочкой, все вспыхивала и вспыхивала передо мной, когда я лежал рядом с Аной. И через неделю она снова привела меня на приспособленный для свиданий склад на окраине города, к его голубым лампам, танцплощадке и маленьким кабинкам. В этот раз я уже не стал придумывать для Аны никаких объяснений.
Я начал жить с новым представлением о сексе и о своих возможностях. Это было все равно что получить новое представление о себе. Мы все подчиняемся врожденным сексуальным импульсам, но не у всех есть врожденные сексуальные навыки, а школ, где можно было бы их приобрести, не существует. Люди вроде меня вынуждены продвигаться в этом деле ощупью, набивая шишки, и ждать случайностей, которые помогли бы им хоть чему-то научиться. Мне было тридцать три года. Всем, что я узнал до сих пор, - если не считать Лондона, который вполне можно было не учитывать, - я был обязан Ане. Сразу после нашего приезда в Африку мы пережили период страстного увлечения друг другом - страстного по крайней мере с моей стороны. Тогда у нас были по-настоящему волнительные минуты; были и сексуальные откровения. Но в немалой степени та страсть, связывавшая нас десять лет назад, была порождена не чувственностью или истинным желанием, а моим тогдашним беспокойством и страхом, похожим на детский, - страхом перед Африкой, перед зияющей бездной, в которую забросила меня судьба. С тех пор ничего подобного между нами не происходило. Ана, даже в тот бурный период, была со мной довольно робка; и когда меня посвятили в подробности ее семейной биографии, я понял, в чем источники этой робости. Так что в каком-то смысле мы были два сапога пара. Каждый находил в другом утешение, и мы с Аной стали очень близки; мы не искал и удовлетворения за пределами своего союза и фактически даже не знали, что такое удовлетворение возможно. И если бы не Альваро, я продолжал бы жить по-старому и в том, что касается секса и чувственности, едва ли превзошел бы своего несчастного отца.
Через некоторое время склад, который мы посещали, закрылся; потом подвернулось что-то другое; потом третье. Наш бетонный городок был очень мал; торговцы, государственные служащие и прочие его жители не хотели, чтобы эти дома свиданий находились поблизости от их собственных домов и семей. Поэтому голубые лампочки и темное зеркало величиной во всю стену переезжали из одного импровизированного убежища в другое. Никто не стремился открыть что-нибудь более постоянное, поскольку армия, на которой держался этот промысел, могла в любой момент сняться с места.
Однажды я увидел среди накрашенных и разодетых девушек дочь плотника Жулио - ту самую маленькую горничную, которая в первое утро после моего приезда отставила метлу, села в высокое мягкое кресло и попыталась завести со мной вежливую беседу. Позже она сказала мне, что у нее в семье каждый день едят одно и то же и что, когда ей сильно достается от пьяного отца, она никак не может заснуть и долго ходит туда-сюда по своей маленькой комнатке. Потом у нас говорили, что эта девушка начала пить, как ее отец, и что у нее вошло в привычку не ночевать дома. Наверное, сюда ее привела какая-нибудь подруга, так же как меня - Альваро.
Я мгновенно решил притвориться, что не замечаю ее; и она, похоже, приняла такое же решение. Вышло, что мы встретились и разошлись как чужие. Я никому не сказал о ней; и она, в следующий раз столкнувшись со мной в поместье, не сказала ни слова и ни единым жестом не дала понять, что узнала меня в ту ночь. Не округлила глаз, не подняла бровей, не поджала губ. Позже, когда я думал об этом, у меня возникло чувство, что именно тогда я и предал Ану, запятнав ее, так сказать, в ее собственном доме.
x x x
Четы Коррейя не было целый год. А потом мы узнали - каждая семья своим окольным путем и не все одновременно, - что Жасинто умер. Он умер во сне, в какой-то лондонской гостинице. Альваро встревожился не на шутку. Теперь он не знал, что его ждет. Он всегда имел дело с Жасинто и подозревал, что Карла его не любит.
Примерно через месяц Карла снова появилась среди нас и стала ездить по знакомым, пожиная сочувствие. Опять и опять рассказывала она о том, какой внезапной была эта смерть, о предпринятом ими накануне походе по большим универмагам, об открытых пакетах, в беспорядке наваленных у кровати, которой суждено было стать смертным одром бедняги Жасинто. Сначала она собиралась перевезти тело обратно в колонию, но мысли о маленьком кладбище в нашем городке вызывали у нее "скверное предчувствие" (внушенное госпожой Нороньей). Поэтому она отвезла тело в Португалию, в провинциальный город, где был похоронен дед Жасинто, чистокровный португалец. Все эти хлопоты отвлекали ее от переживаний. Боль пришла потом. Хуже всего ей стало, когда она встретила в Лиссабоне каких-то нищих. Она сказала: "Я подумала, что этим людям совершенно незачем жить, но они все-таки живут. А у Жасинто было столько вещей, ради которых стоило жить, но он все-таки умер". Эта несправедливость доконала ее. Она разрыдалась прямо на улице, и нищие, которые подошли к ней, заволновались; кто-то из них даже попросил у нее прощения. (Позже Ана сказала мне: "Я всегда думала, что Жасинто верит, будто богатство может спасти от смерти. Верит, что не умрет, если разбогатеет по-настоящему. Но я думала так только в шутку. Я не знала, что это правда".)
Читать дальше