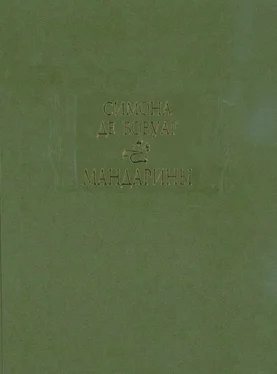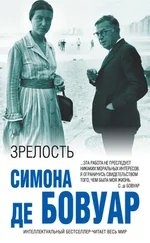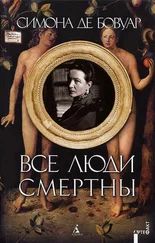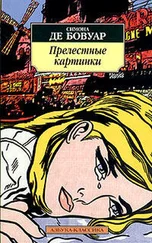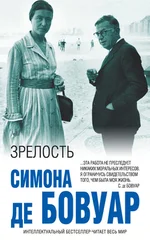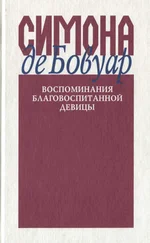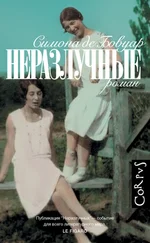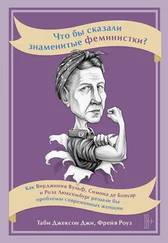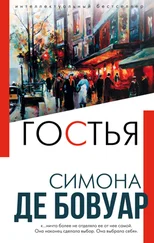Альгамбра — древняя столица арабских правителей исторической провинции Гранада (Испания); для французов сады Альгамбры и дворец-замок халифов (середина XIII — конец XIV в.) были символом восточной роскоши.
Джанго Рейнхардт (1910—1953) — первый европейский джазовый музыкант-гитарист, признанный на родине джаза, цыган по происхождению.
...накануне высадки... — Во время Второй мировой войны (1939—1945) высадкой десанта на северо-западе Франции в июне 1944 г. войска США и Британии открыли второй фронт в Европе.
...Америка, Мексика, Бразилия... СССР, Китай... — К середине 1960-х гг. де Бовуар посетила все эти страны и описала свои путешествия в воспоминаниях; США и Китаю она посвятила пространные эссе.
Скрясин. — Прототип Скрясина не назван де Бовуар, однако у этого персонажа много общего с Артуром Кёстлером (1905—1983), английским писателем и психологом венгерского происхождения (писал также на немецком языке), человеком с изломанной судьбой. В 1922—1926 гг. он учился в Венском университете и примыкал к леворадикальной интеллигенции, в 1931 г. вступил в компартию Германии. Много путешествовал по Европе, был корреспондентом ряда газет в Советском Союзе. После гражданской войны в Испании перешел на антикоммунистические позиции. Как и Кёстлер, Скрясин разоблачал сталинский режим и считал, что западные интеллектуалы, воспитанные на принципах уважения прав личности, не способны понять реального положения дел в Советском Союзе. Как и Кёстлер, Скрясин не любил молодежи.
Я целовала его. — Описанная сцена, часто повторявшаяся в годы войны в жизни де Бовуар, наглядно показывает, как жила тогда «семья», которую содержали Сартр и де Бовуар и куда входили несколько молодых людей лет на восемь—десять моложе «родителей». В их числе были сестры Козакевич, бывший ученик Сартра Бост и бывшая ученица де Бовуар Наташа Сорокина. Прототипом Диего послужил еврей испанского происхождения по фамилии Бурла, которого ввела в «семью» Наташа Сорокина.
Мертвые мертвы... нам, живым, предстоит проснуться... — К этой мысли де Бовуар возвращалась много раз и в романе «Кровь других» (1945), и, особенно часто, в романе «Все люди смертны» (1946), где ее на все лады повторяет наделенный бессмертием Фоска; для де Бовуар эта констатация означает трагическую невозможность «постичь смерть других» (об этом см.: Beauvoir 1963: 78).
«Красный рай». — В Европе и в США большой известностью пользовался роман А. Кёстлера (прототипа Скрясина) «Слепящая тьма» (1940, его французское название — «Le Zéro et l'Infini»: «Ноль и бесконечность»), где описаны показательные судебные процессы в Москве в 1930-х годах.
...искусство и литература покажутся... не более чем устаревшими забавами. — На подобные аргументы Сартр ответил в работе «Что такое литература?» (1947), которую закончил такими словами: «Мир прекрасно может обойтись и без литературы. Но еще лучше он может обойтись без человека» (Сартр 2000: 274).
Александрийская поэзия — поэзия эпохи эллинизма (323—30 до н. э.), названная так по своему центру, Александрии Египетской; отличительные черты этой поэзии — отказ от гражданской тематики и «ученость», проявлявшаяся как в интересе к малоизвестным версиям мифов, так и в подражании языку гомеровского эпоса.
...для вас служить революции — это писать книги. — Такова была позиция Сартра и де Бовуар в предвоенные годы: «Мы хотели оказывать собственное воздействие через общение с людьми, преподавательскую деятельность и наши книги. Это было бы скорее разрушительное, нежели созидательное воздействие, но <...> мы полагали, что критика чрезвычайно полезна» (Beauvoir 1960: 141).
Мечты об абсолюте. — Подобные настроения были весьма характерны для французской интеллигенции середины 1920-х и 1930-х годов. В свое время Сартр и де Бовуар их разделяли, позднее жестко критиковали. Сартр осуждал сюрреалистов именно за «грезы об абсолюте»: «Все они отправились на поиски абсолюта, но, поскольку со всех сторон их обступало относительное, эти писатели отождествили абсолют с невозможным. Все они колебались между двумя ролями: ролью провозвестников нового мира и ролью разрушителей старого. Однако, поскольку в послевоенной Европе легче было различить приметы упадка, нежели приметы обновления, все они сделали выбор в пользу разрушения» (Сартр 2000: 182).
Читать дальше