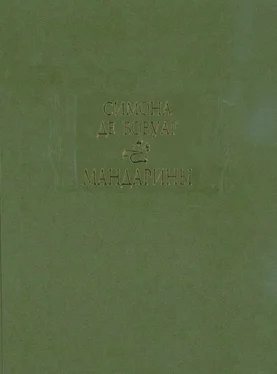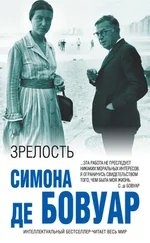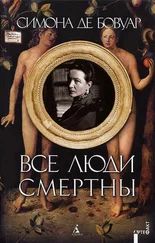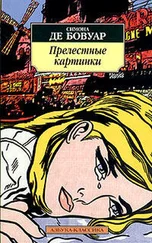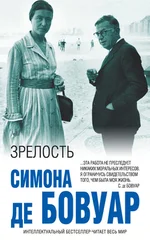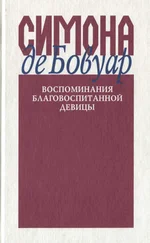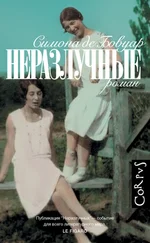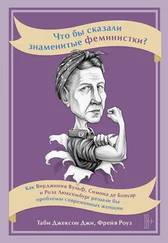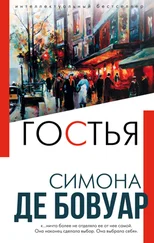* * *
Задержим внимание читателя еще немного и снова вернемся к роману «Мандарины», знакомство с которым происходит у нас в стране с опозданием на полстолетия. Следует признать, что такое опоздание поместило произведение в иной культурный контекст, решительно отличающийся от всего, с чем мы имели дело в 50-е годы XX века. «Мандарины» предстали перед современниками как подлинные «золотые плоды» модернистской литературы, а содержавшиеся в них «косточки» постмодернизма были до поры отброшены за ненадобностью. Капля, как известно, камень точит, и потому мерная капель лет, омывая произведение, проявляет в нем прежде незримые черты.
Как уже говорилось, главное достоинство романа «Мандарины», отмеченного в 1955 году Гонкуровской премией, — тонкое исследование умонастроений французской левой интеллигенции послевоенной поры. Возможно, для современного читателя это и не слишком животрепещущая тема, но произведение не утратило своего значения. Только акценты при его прочтении теперь будут расставлены немного иначе: читатель увидит в нем контуры более общей проблемы, какой является проблема места интеллигента в мире. При этом особая ценность романа для российского читателя заключается в том, что в нем нашли отражение аспекты, которые, в силу исторических особенностей национальной ментальности, зачастую ускользают от нашего внимания. Со времен Некрасова утвердилось и на разные лады до сих пор повторяется мнение, что поэт в России больше чем поэт и что высокая гражданственность — его неотъемлемая черта. Во Франции, где традиции индивидуализма в высшей степени сильны, в многогранном облике поэта заметнее акцентированы иные черты: он — «проклятый», точнее даже «проклятый безумец». В обеих странах за Поэтом (читай: за творческой интеллигенцией) признают провидческий дар, но если в России на него по этой причине возлагают миссию Учителя жизни, то во Франции поэт выступает скорее в роли вещей Кассандры, не находящей отклика у сограждан; его голос — глас вопиющего в пустыне. История не пренебрегает ни одной возможностью: она создает и такие ситуации, когда народы прозорливцам верят и за ними идут, и такие, когда их клеймят и преследуют.
Позволим себе небольшое отступление. Если идеология [35] Во избежание разночтений напомним, что под идеологией мы, вслед за французским философом В. Декомбом, понимаем «дискурс, представляющий фактическое положение как основанное на праве, традиционное преимущество как естественное превосходство» (Декомб 2000: 132).
устаревает, общество отбрасывает ее подобно тому, как змея во время линьки сбрасывает кожу: сначала эта кожа лопается у нее на голове, потом рептилия, томимая невыносимым зудом, трется о неровности рельефа, чтобы побыстрее от нее избавиться, — и вот уже, освобожденная, она влажно поблескивает на солнце новыми яркими узорами. Интеллектуал-маргинал — тот, кто начинает подспудно вырабатывать эту будущую радужную прелесть задолго до того, как змеиная кожа превратится в выползок. В гордом одиночестве подготавливает он неповторимый рисунок бытия. Но есть другие одиночки, и сотканные их воображением узоры способны создать иное расположение цветовых пятен [36] Ибо, как утверждают социологи, определения реальности имеют потенциал самоосуществления.
. Интеллектуалы-маргиналы предстают перед нами как «ересиархи» любой господствующей идеологии, они, по словам Сартра, «вечные отщепенцы», ремесло которых — критиковать, протестовать и изобличать, ибо «политик, предоставленный самому себе, всегда выбирает самое удобное средство, иначе говоря, скатывается по наклонной плоскости» (Сартр 2000: 246). Совсем другую позицию по отношению к миру занимают интеллектуалы-«праведники». В одной из лекций о современной французской литературе писатель Жюльен Грак построил примечательную антитезу литературы по Клоделю и литературы по Сартру, которую уместно будет вспомнить. Известного писателя-католика Поля Клоделя отличает, по его мнению, не столько католицизм, сколько «определенное основательное отношение к миру», которое Грак называет ощущением принятия — глобальным «да» — без колебаний, почти ненасытным по отношению к Творению, взятому во всей его целостности. Здесь нет места для выбора, и, как замечает Грак, Клод ель соглашается со всем — и с благородным, и с недостойным; он соглашается с Богом, с Творением, с Папой, с обществом, Францией, Петеном, де Голлем, деньгами, хорошо обеспеченной карьерой, с потомством патриарха, с крепким домом, на котором, как он говорит, он женился в присутствии нотариуса. У Сартра, утверждает Грак, все как раз наоборот. Его отношение — это инстинктивное «нет». Нет природе, нет другим, нет существующему обществу, нет сексуальности, нет даже литературной славе (об этом см.: Gracq 1961: 92—93).
Читать дальше