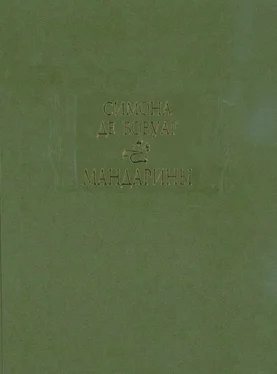— Только не говорите мне, что в случае конфликта вы станете желать победы Америки! — сказала я.
— В любом случае история неизбежно приведет к созданию бесклассового общества, — продолжил Скрясин, — это дело двух или трех веков. Во имя счастья человечества, которое будет жить в этом промежутке, я горячо желаю, чтобы революция произошла в мире под властью Америки, а не СССР.
— Мне почему-то представляется, что в мире под властью Америки революция довольно долго заставит себя ждать, — возразила я.
— А вы представляете себе, какой будет революция, совершенная сталинистами? Где-то около тысяча девятьсот тридцатого года революция была необычайно прекрасной во Франции. Ручаюсь вам, что в СССР она была менее прекрасной. — Он пожал плечами. — Вы готовите себе странные сюрпризы! В тот день, когда русские оккупируют Францию, для вас многое прояснится. К несчастью, будет уже поздно!
— Русская оккупация... Да вы сами в это не верите, — сказала я.
— Увы! — молвил Скрясин. И вздохнул: — Ну хорошо, будем оптимистами. Согласимся, что у Европы есть шансы. Однако спасти ее можно лишь неустанной, каждодневной борьбой. Какая уж тут работа для себя.
Теперь я в свою очередь умолкла; все, чего хотел Скрясин, — это заставить замолчать французских писателей, я прекрасно понимала почему; и его пророчества были неубедительны; тем не менее его трагический голос находил во мне отклик: «Как мы будем жить?» Вопрос мучил меня с начала вечера, а до этого сколько уже дней и недель?
Скрясин угрожающе смотрел на меня.
— Одно из двух: либо такие люди, как Дюбрей и Перрон, трезво оценив ситуацию, приступят к действию, которому придется отдаться целиком, либо станут плутовать, упорствуя в своем желании писать: их произведения будут оторваны от действительности и начисто лишены перспективы; это будут труды слепых, столь же удручающие, как александрийская поэзия {14} 14 Александрийская поэзия — поэзия эпохи эллинизма (323—30 до н. э.), названная так по своему центру, Александрии Египетской; отличительные черты этой поэзии — отказ от гражданской тематики и «ученость», проявлявшаяся как в интересе к малоизвестным версиям мифов, так и в подражании языку гомеровского эпоса.
.
Трудно спорить с собеседником, который, ведя разговор о мире и других людях, непрестанно говорит о самом себе. Я не могла успокоить себя, не обидев его. И все-таки сказала:
— Пустое дело ставить людей в безвыходное положение, жизнь всегда заставит найти выход.
— Только не в этом случае. Александрия или Спарта — другого выхода нет. Лучше сказать себе об этом сейчас, — добавил он, несколько смягчившись, — жертвы становятся менее мучительными, когда оказываются позади.
— Я уверена, что Робер ничем не пожертвует.
— Вернемся к этому разговору через год, — сказал Скрясин. — Через год он либо дезертирует, либо перестанет писать; я не думаю, что он дезертирует.
— Он не перестанет писать. Лицо Скрясина оживилось.
— На что спорим? На бутылку шампанского?
— Никаких споров.
— Вы похожи на всех женщин, — улыбнулся он, — вам нужны неподвижные звезды в небе и километровые столбы на дорогах.
— Знаете, — возразила я, пожав плечами, — за минувшие четыре года они немало поплясали, эти неподвижные звезды.
— Да, но вы, однако, не теряете уверенности, что Франция останется Францией, а Робер Дюбрей — Робером Дюбреем, иначе вы сочтете себя погибшей.
— Послушайте, — весело отвечала я, — ваша объективность кажется мне сомнительной.
— Я вынужден следовать вашему примеру: вы противопоставляете мне лишь субъективные убеждения, — сказал Скрясин. Улыбка согрела его испытующий взгляд. — Вы смотрите на вещи слишком серьезно, не так ли?
— Когда как.
— Меня предупреждали, — признался он, — но мне нравятся серьезные женщины.
— Кто вас предупреждал?
Неопределенным жестом он указал на всех и ни на кого в частности:
— Люди.
— И что же они вам сказали?
— Что вы сдержанны и суровы, но я этого не нахожу.
Я сжала губы, чтобы не задавать других вопросов; ловушки зеркал я сумела избежать, но взгляды — кто может устоять перед этой головокружительной бездной? Я одеваюсь в черное, говорю мало, не пишу, все это создает мой облик, который видят другие. Легко сказать: я — никто, я — это я. И все-таки кто я? Где меня встретить? Следовало бы очутиться по другую сторону всех дверей, но, если постучу именно я, мне не ответят. Внезапно я почувствовала, что лицо мое горит, мне хотелось содрать его, словно маску.
Читать дальше