— Ты, значит, все еще уверен, что я гожусь для философского факультета? — спрашивает она и берется за карандаш для век.
— Да.
— Почему же ты не хочешь использовать свои связи? Если уж не ради дочери, то хотя бы справедливости ради.
— Ты переоцениваешь мое влияние.
— Но и свое малое влияние ты не пускаешь в ход.
— Девушке, которая хочет изучать философию, а значит и этику, вряд ли нужно объяснять причины.
— Уж не думаешь ли ты, как старый Бирт, что у нас не бывает махинаций такого рода?
— Я думаю, что было бы хорошо, если б их не было.
— Поскольку отец у меня моралист, мне остается только смирение.
— Не смирение — понимание, понимание также и того факта, что ты сделала что-то неправильно. У тебя были, как у любого другого, все возможности, а ты пустила их на ветер, но ведь не навсегда. Ты можешь снова и снова пытаться. У тебя все только начинается. Если ты убеждена, что годишься, то сможешь убедить в этом других. Будь настойчивой, не давай им покоя. Но будь настойчивой и по отношению к себе. Если будешь уверена в себе, не будет причин смиряться.
Подкрашивание закончено. Корнелия встает, кладет руки на шею Тео и трется щекой о его щеку.
— Смешно, — говорит она, — что именно ты говоришь это. Именно ты, именно сегодня!
— Смейся на здоровье, — говорит Тео и, как уже много раз за все эти годы, задается вопросом, любил ли бы он ребенка так же, будь это мальчик. — Я тоже посмеюсь над неуверенным стариком, проповедующим уверенность. Но об опасности льда убедительней всего судит тот, кто сам провалился. Ты называешь меня моралистом, но урок, который я получил сегодня, носит скорее практический характер. Хорошо можно делать лишь то, в ценности чего ты убежден, и так называемый золотой путь середины — это часто черный путь в пропасть. Ну, иди, покажись жаждущей зрелищ толпе. А я отдохну тут немножко у тебя и переменю ботинки.
18
«Сейчас я, пожалуй, единственный нормальный человек в этой семье», — думает Ирена, увидев входящую Корнелию.
Встревоженные приступом смеха у Тео, гости растеряли все темы для разговора. Они оборачиваются на открывающуюся дверь и становятся свидетелями парадного появления Корнелии. Ни о чем чрезвычайном никто, кроме хозяйки дома, в этот момент не думает, да и у нее испуг слит с восхищением Она пугается преображения дочери, радуется, что оно произошло в желательном направлении, готова восхищаться и все же не может освободиться от страха, находя тут слишком много сходства с приступом отчаянного смеха у Тео.
Корнелия выглядит прекрасно. Несчастный ребенок превратился в прелестно одетую девушку, уверенную в себе и в том впечатлении, которое она производит, — в первую очередь на мужчин, потому что они не только восхищаются, но и вожделеют. За какой-нибудь час ребенок словно постиг материнские заповеди красоты, более того, проник в тайну женских ухищрений, которой мать никогда не выдавала. Например, что желанное становится вдвойне желанным, если откровенно взывает к желанию. Что, следовательно, мужчины не только желают того, что им показывают, но желают вдвойне, потому что это показывают им.
А Корнелия показывает многое. Не потому только, что ее небесно-голубое платье сделано из очень маленького отреза и уже в течение года лежит нетронутым, а девушка из месяца в месяц прибавляла в росте и объеме, но и потому, что она хорошо подкрашена и тем привлекает взоры к своим глазам и своим губам, которые уже не сжаты в задумчивости, а, расслабленные, стали полнее и, возможно из страха, что жирная краска их, чего доброго, склеит, обнажают полоску зубов.
Не показывает она лишь своей прически (ее за час не поправишь). Волосы девушки прикрыты модельной шляпой, придающей ее облику полную законченность, доводящей до совершенства очарование, которому сразу все поддаются, даже господин Краутвурст — лишь после нескольких секунд самозабвенного изумления он, чтобы не совершить ошибки, хочет удостовериться в реакции жены. Но она, покоренная, как и он, склоняет в восторге голову набок и, поскольку рядом находится плечо профессора Либшера, припадает к нему. Фрейлейн Гессе выглядит еще более задумчивой, чем прежде; так как мысли ее всегда заняты отцом, то в дочери она ищет сходства с ним. Лицо фрау Шустер утрачивает всякую робость. Она улыбается и произносит, не спросившись у мужа: «А-ах!» На Пауля она сейчас не обращает внимания. Эта обязанность достается Ирене, которая с первого взгляда понимает, что тут потребуется ее вмешательство. В этот момент она впервые по-настоящему узнает Пауля, старого Пауля, то есть в постаревшем и изменившемся Пауле она узнает Пауля прежних времен. Ибо так, как он теперь смотрит на ее дочь, бородатый смотрел когда-то на нее, Ирену.
Читать дальше
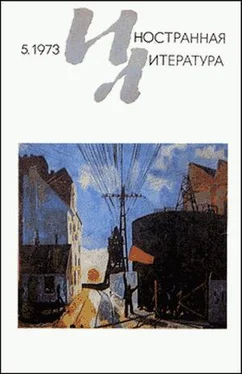
![Лотар-Гюнтер Буххайм - Подлодка [Лодка]](/books/6738/lotar-gyunter-buhhajm-podlodka-lodka-thumb.webp)








