Поначалу писалось ему трудно. В мыслях у него складывались увлекательнейшие пассажи, остроумнейшие обороты, легко, словно камень в воде, он поднимал их на поверхность озера своих представлений; но когда он хотел вытащить их целиком, перенести на бумагу, они тяжелели и у него не хватало сил. Он еще предъявлял к себе какие-то требования и страдал, не умея удовлетворить их. Видел идеал и не мог подойти к нему, переходил лишь из одной передней в другую. Позднее, заметив, что жажду признания легче утолить другим способом, он выбрал путь полегче. Он не искал больше слов, а держал наготове шаблоны, благодаря которым его стиль стал чище, глаже, ровнее, однообразнее. А вместе со стилем так же видоизменялись его наблюдения и мысли.
Чаши признания, которые он осушал, увеличились, но бочками, которых он желал себе, они не стали. Он был достаточно умен, чтобы понимать: виной тому чересчур затасканные шаблоны. Однако он был уже слишком ленив (слишком стар, говорил он), чтобы сменить их, хотя и достаточно энергичен, чтобы продавать их в других местах — в кино, на радио, на телевидении. У него было денег больше, чем когда бы то ни было, но поскольку он общался с людьми, у которых их тоже было много, и даже еще больше, и подражал этим людям, ему тоже требовалось еще больше. Тоска по славе романиста была забыта, как пуговица, закатившаяся под кровать. Стоит ли изнурять себя работой только для того, чтобы несколько тысяч людей знали его имя и потому осмеливались судить о нем? Легче было всюду показываться, во всем участвовать, принимать все приглашения, заботиться, чтобы несколько важных лиц говорили о нем только хорошее, и держаться подальше от тех, кто впал в немилость.
Тем самым его отношение к людям вступило в третью стадию. В первой решали только симпатия и антипатия. Во второй все люди в расчете на будущие книги делились на интересные и неинтересные характеры. Теперь его занимала только их влиятельность, которой он мог бы при надобности воспользоваться. Исходя из этого, он искал и жену. Но не нашел. Влиятельные были замужем, честолюбивые — это молодые колючки, которые он не хотел всаживать себе в тело. Поэтому он остановился на Улле и о том не жалел. Большего, чем она могла ему дать, он и не ожидал. Он даже не собирался научить ее машинописи. Она была средством против одиночества, которого он боялся, она баловала его и не беспокоила. Более высоких требований он ей не предъявлял. Как и к самому себе.
Но другие их предъявляли к нему. Пройс, например. Он брал теперь не все, что Пауль предлагал. И другие газеты находили отговорки. Все, что он знал и умел, было израсходовано. Он был пуст. Старые шаблоны больше не годились. Он пристроился на радио, писал тексты для развлекательных программ, срочно, в течение нескольких часов, по телефонному заказу, — дурацкие банальности, которые слушают за мытьем посуды и тут же забывают.
В это время он снова вспомнил о своей книге, которую тогда так легкомысленно принес в жертву идолу по имени Правда. Ему он больше не поклонялся. Поскольку он и к себе уже не относился серьезно, мог смотреть на пережитое со стороны и набил руку, ему удалось сделать из старой, устаревшей книги новую, актуальную.
Она была неплоха, это он знал. Но что ее отметили премией, это его удивило — и раззадорило. Получив известие, он и обрадовался, и устыдился. Премия заставила его осознать, какой легкий путь он избрал. Но он покажет наградившим, на что способен.
И вот он приезжает, подъезжает, тормозит, вылезает. Слишком рано. Он прогуливается, с женой под руку, по парку, садится на скамейку, курит; свои обвинения он не забыл, но отложил. А может быть, он и не выдвинет их. Не из великодушия — из осторожности. Они легко могут превратиться в самообвинение.
13
— Теперь еще ботинки, — говорит Тео, сбрасывает расхожие ботинки и шарит ногой в носке по дну стоящего в полутемном институтском коридоре шкафа в поисках выходных ботинок, пытаясь одновременно избрать начало для торжественной речи, самое начало, обращение, — освобожденное от всяких канонов феодальных и полуфеодальных времен, оно предано проклятью свободы, несет с собой муки выбора, оставляет оратора наедине со своим опытом, который в данном случае, у Тео, достаточно мал. Уместно ли здесь чопорное «Многоуважаемые...», или сердечное «Дорогие...», или нейтральное «Уважаемые...»? Можно ли говорить «Товарищи!», если среди присутствующих будут беспартийные или члены других партий? Не звучит ли более широкое «Коллеги!» чересчур корпорационно, профсоюзно и можно ли обозначить этим словом его, Тео, отношения с президентом Академии или с присутствующим, надо думать, заместителем министра? Пожалуй, он еще менее вправе сказать обоим просто «Друзья!» — это обращение, по прихоти языка, исключает женский вариант («Дорогие подруги!» звучало бы так, словно он созвал на пленарное заседание всех бывших и нынешних своих возлюбленных, что означало бы совершенно пустой зал, ибо Ирена, его единственная, не придет). Остается добропорядочное «Дамы и господа!», уместное, во всяком случае, если в зале будут иностранцы, или бесполое «Гости!», не включающее в себя, правда, хозяев дома, или самое общее, самое неконкретное, самое бесцветное и невыразительное «Присутствующие!», при котором во всяком случае никто не может считать себя обойденным.
Читать дальше
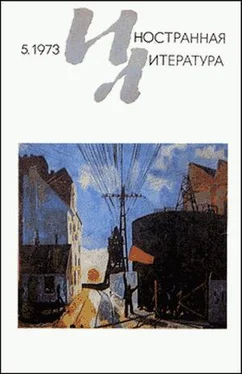
![Лотар-Гюнтер Буххайм - Подлодка [Лодка]](/books/6738/lotar-gyunter-buhhajm-podlodka-lodka-thumb.webp)








