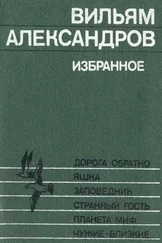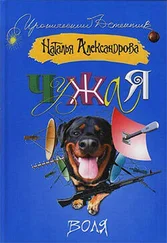— И ты смотрел?
— Ага. Стоял тоже. А что?
— Ничего. Просто вот, думаю… Стоим мы тут, смотрим, нитки вдеваем. Стенки долбаем… Кому это нужно — когда там такое?..
Миша поднял свои белесые брови и уставился на меня узкими зеленоватыми глазами.
— Ты же слышал, — сказал он сипло. — Каждый удар челнока — удар по врагу. Во-он там плакат висит даже. Так и написано, видишь?
— Вижу. От плаката им не легче. Думаешь, немцы плакат читать будут?
— При чем тут немцы? Сам читай и работай лучше, понял?
— Ну, добже, хватит, — вмешивается Синьор. — Чего пустословить. У каждого своя судьба. У меня, навьерное, на роду написано ткачом быть. От самого рождения слышу ткацкий станок. Так, навьерное, и помру под эту музыку… Каждому свое. Ну ладно, бори тушенку, слышишь, как пахнет!
Пахло действительно здорово После нашей затирухи и редьки, оставлявших неутоленное, сосущее чувство, пахло так, что аж голова кружилась Синьор еще подогрел со немного, поставил на третий мотор в старом цеху — он у нас греется, как сковородка, и теперь от тушенки исходил дурманящий, обволакивающий запах.
У пас осталось еще но кусочку хлеба, да три ломтя кукурузной лепешки — их продавали у ворот комбината по десять рублей штука, были они маленькие, круглые и желты с, как будто каменные. А Махмуд еще положил спою — настоящую лепешку! Тут было от чего потерять терпение.
— Давай, Миша, дели.
Миша бережно разрезал своим знаменитым охотничьим ножом лепешки и хлеб на равные части и накладывал на ломти тушенку — тоже стараясь набирать строго одинаковое количество.
И в это время мы скорей почувствовали, чем увидели, что напряжение начало падать — в цеху стало темнее, натужно взвыли моторы, в их голосе появилась надсадная, жалостная нота, потом сделалось еще темнее, станки бессильно хлопали.
— Что-то на станции, — тревожно проговорил Миша. — Дизеля садятся. Пошли к моторам, — крикнул он и побежал. Но было уже поздно. Еще несколько секунд свет слабо мерцал в лампах, угрожающе гудели «прилипшие» двигатели, и все стихло. Мы на ощупь пробирались впотьмах, натыкаясь на станки и ограды, а вокруг слышался беспокойный говор людей, взволнованные, тревожные голоса.
И тут через весь цех полетел зычный крик Бутыгина.
— Выключай моторы! Выключай, говорю! Дадут напряжение — все плавки полетят, едри твою качалку!
Мы это и без него знаем, поэтому и торопимся. Ну вот, кажется, добрался я, наконец, до ограды, вот он, «японец», — распластанной тушен виднеется в темноте. Осторожно, чтобы не попасть ладонью на рубильник, нащупываю щит, добираюсь до ручки. Есть! Ну, слава богу! Выключил. Пусть он теперь орет себе на здоровье, пусть он поминает всех святых. Но голоса Бутыгина не слышно. Вместо него я различаю где-то поблизости дрожащий голосок Пани.
— Ой, страшно как, ну ничегошеньки не видно. Хоть бы станок выключить!
— Ты где, Паня? — говорю я. — Давай руку. — Я нахожу в темноте се руку, потом подбираюсь к станку, выключаю ого.
— Спасибочки, — говорит она шепотом, — я совсем злякалась. Думала, налет немецкий…
Ну что ты, Паня, разве же немцам сюда добраться. Это просто на станции что-то.
Я успокаиваю се, а сам слышу, как тревожно бьется где-то совсем рядом, в темноте, ее сердце. И рука ее — маленькая, горячая — чуть вздрагивает в моей руке.
За окнами цеха гудит что-то, какие-то полосы света мелькают снаружи.
— Паня, — говорю я чуть слышно, — ты испугалась?
— Ага, — шепчет она и прижимается ко мне. — Ой, страшно как.
Я нахожу в темноте ее лицо, ее глаза, ее волосы, провожу по ним ладонями, и так мы стоим, чувствуя, как колотятся рядом наши сердца. Где-то там матерится Бутыгин, щелкаю рубильники, кто-то шарит лучом фонарика по стене, и снаружи гудит что-то, и ползут какие-то блики, но мы ничего этого не видим и не слышим. Мы стоим, прижавшись друг к другу, не дыша и не двигаясь, и нет для нас сейчас ничего другого на свете.
Женька очнулась от колющей боли во всем теле — казалось, тысячи мелких раскаленных колючек вонзались в нее со всех сторон, шевелились и жгли, а она не могла шевельнуть ни рукой ни ногой, чтобы оттолкнуть их. Наконец она собрала все свои силы, открыла глаза и тут же в ужасе застонала: какой-то человек, напрягаясь и тяжело дыша, из всей силы тер ладонями ее обнаженное тело.
Она хотела закричать, но у нее вырвался лишь придушенный слабый стон, и слезы покатились из глаз от обиды и бессилия.
Читать дальше