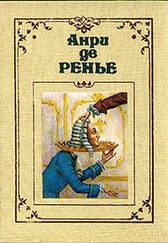Черные и вещие, они словно стерегут чью то могилу, и каменная плита смотрит надгробием в этот вечер. Изветрелая его глыба нахмурилась и словно отяжелела. Отвалишь ли ты, наконец, такую же давящую плиту, о непостижимо утраченная, о подземельница, ты, кто больше жизни, кем овладеть можно только в смерти, и кого я звал Евридикой!
Мне кажется, я так хорошо знал ее, живущую по ту сторону реки, и кого я звал Евридикой. Это имя нравилось ей, и она улыбалась, слыша его, словно оно будило в ней древнюю радость. Иногда, однако, она вздыхала, когда ее так называли, так как древняя печаль таилась, может быть, в глубинах ее снов. Она стояла на перепутьи между двумя рядами эхо; мне было неизвестно, куда они влекли ее воспоминания, так как я ничего не знал о ее Судьбе; и пред лицом ее красоты любовь моя довольствовалась ею одною. Но я не собираюсь говорить здесь о своей любви и рассказывать о своих чувствах, я хочу лишь вызвать образы, и из них нет более драгоценного для моей души, чем образ Евридики. Одиночество мое служит лишь ее призрачному присутствию, и молчание мое длится лишь для того, чтобы продлить жизнь ее голоса.
Я вижу вновь ее волнистые волосы на подушках, о которые она любила опираться, так как красота ее, как всякая подлинно прелестная красота, не лишена была известной томности. То были подушки, украшенные большими вытканными цветами, искусно отдаленными от природы. К ним примешивались мотивы плодов, гранатов, похожих на тюльпаны. Прекрасные плоды вздувались и взбухали, а гибкие цветы располагались не столь подражательно, сколь закономерно и разумно. Некоторые ткани бывали так легки, что прозрачность их обнаруживала наполнявший подушки пух: белый пух лебедей Монсальвата, черный пух лебедей Аида!
Под вечер она распускала гиацинтовую повязку, сдерживавшую ее волосы, и иногда мы бродили в сумерках.
Чаще всего на ней бывало зеленое платье, яркого и свежего оттенка. Серебристые отсветы переливались в зеленоватой ясности ткани. Полупрозрачные эмалевые розы украшали его, отягощая складки и придавая им статуарную и словно архаичную окаменелость. Вставка из драгоценных камней покрывала ее грудь живыми каплями изумрудов и туманно-мертвыми опалами. Ноги ее бывали необуты; платье слегка влачилось по теплому песку аллей сада, где мы блуждали. Это была старая песчаная отмель, речная или морская. Маленькие черепахи в желтой с черным чешуе там прогуливались. Там росли карликовые лимонные деревья. Плоды их были мясистые, кисловатые, с привкусом горечи.
Лицо Евридики обладало странной красотой. Оно хранится во всех зеркалах моих снов; ищите ее в ваших снах, так как она живет в каждом из нас, бессмертная молчальница, таинственно прильнувшая.
Часто мы созерцали вместе сумерки, Евридика и я. В такие часы имя ее звучало нежнее и мелодичнее. Слоги его звенели, как прозрачный ночной хрусталь : фонтан в кипарисовой роще. То были часы, когда имя ее вибрировало особенно печально. Иногда она начинала говорить. Медлительная сладость ее голоса, казалось, удалялась на расстояние сна. Голос становился совсем тихим, словно заглушенным и затерянным в собственном лабиринте, откуда он постепенно возвращался к своей обычной нежности.
Она охотно говорила о воде и цветах, часто - о зеркалах и о том, что в них отражается из несуществующего в нас. Мы создавали также причудливые жилища, комнаты и дворцы. Мы придумывали подходящие к ним сады. Она изобретала очаровательные и меланхолические. Там был один, украшенный порфиром, который время, казалось, исцелило от источаемой им крови, - с мраморами, аллеями, торжественно строгими, лужайками, где на солнце распускают свои павлиньи хвосты фонтаны.
Я припоминаю, однажды вечером, - это был один из последних вечеров, когда я ее видел, - она заговорила со мною о павлинах. Она ненавидела их и не выносила их присутствии в мирных и молчаливых местах, где мы так не неизъяснимо жили. В тот вечер я напомнил ей нашу встречу на сумрачной и задумчивой реке, когда моя и ее лодка встретились. Она была одна. Она плакала. На корме примостился павлин, голова и грудь которого отражались в воде, а хвост наполнял всю лодку своим ослепительным великолепием. Печальная и бледная путница сидела среди перьев. Самые длинные влачились по воде сзади.
И так как воспоминание о пасмурной воде, между старых деревьев, о лодке, медлительно скользящей в сумерках, о царственной птице в ней, о незнакомой безмолвной женщине мне было сладостно, - я опустил голову в печали и нежности на колени Евридики. Она поддерживала ее прекрасными руками, словно взвешивая. Я посмотрел ей в глаза: незапамятная печаль туманила их, и я услышал, как она говорит мне своим правдивым и древним голосом, столь далеким, что он казался доносящимся с другого берега реки, по ту сторону судьбы, голосом столь тихим, что я едва мог расслышать его, столь тихим, что больше я его не слышал никогда:
Читать дальше