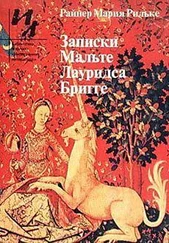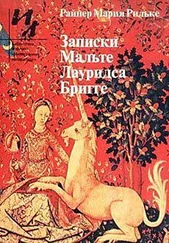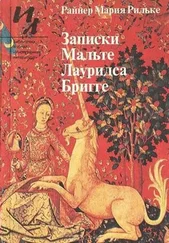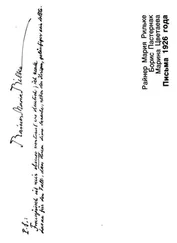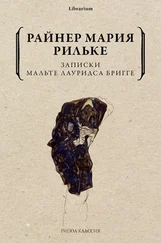* Иоганн Каспар Лафатер (1741-1801) - швейцарский писатель и теолог.
(Впрочем, что до моего отца, отношения его к Богу были вполне корректны и безупречно вежливы. В церкви мне казалось не раз, что он егермейстером у самого Господа Бога, когда, стоя на молитве, он склонял голову. Maman, напротив, вежливость по отношению к Богу считала почти оскорбительной. Исповедуй она религию с отчетливым и подробным обрядом, она бы простаивала на коленях часами, простиралась бы ниц, осеняла бы себя широким крестом по плечам и груди. Она толком не выучила меня молитвам, зато радовалась, когда я готовно падал на коленки и то стискивал, то плоско складывал пальцы, как казалось мне, для вящей доходчивости. Почти предоставленный себе самому, я рано прошел через ряд стадий, которые лишь много позже, в пору отчаяния, я соотнес с Богом, и притом так рьяно, что Бог мне открылся и рухнул чуть не одновременно. Пришлось, разумеется, все начинать сызнова. Тогда-то нередко испытывал я нужду в поддержке maman, хоть правильней, разумеется, было этот период одолеть одному. Да она уж и давно умерла тогда.) *
* Написано на полях рукописи (примечание Рильке.).
Maman обращалась с доктором Есперсеном порой без всякой почтительности. Затевала разговор, который он принимал всерьез, и покуда он вслушивался в свои объяснения, теряла к нему интерес; начисто о нем забывала, будто его и нет в комнате. "И как может он, - нередко говорила она, - наведываться к людям, когда они умирают!"
Он и к ней наведался по этому поводу; только она, конечно, его не увидела. Чувства изменяли ей одно за другим, и первым ушло зрение. Была осень, уже собирались в город; и тут она слегла, верней, сразу стала умирать, медленно, безутешно отмирать по всей поверхности тела. Ездили доктора, однажды съехалось их много, они заполонили дом. На несколько часов он словно отошел во владение профессора и его ассистентов, а мы лишились всех прав. Потом, сразу, они махнули на нас рукой, ездили уже по одному, как бы из вежливости, пропустить стаканчик портвейна, выкурить сигару. Maman между тем умирала.
Ждали только единственного брата maman, графа Кристиана Брае, который, надо напомнить, долго был в турецкой службе и, говорили, весьма там отличился. Он приехал в сопровождении иностранца лакея, и меня поразило, что он ростом выше и, кажется, старше отца. Они обменялись несколькими фразами, которые, как я понял, касались maman. Потом была пауза. Потом отец сказал: "Она ужасно изменилась". Я не понял тогда его слов, но содрогнулся, их услышав. Мне показалось, что и отцу они дались с трудом. Но быть может, всего более страдала его гордость.
Лишь несколько лет спустя услышал я вновь о графе Кристиане Брае. Было это в Урнеклостере. Матильда Брае любила о нем поговорить. Я уверен, однако, что часть эпизодов она толковала достаточно вольно. Жизнь дяди, обществу и даже нашей семье известная только по слухам, которых он не удосуживался опровергать, оставляла широкое поле для домыслов. Теперь Урнеклостер отошел к нему. Но живет ли он там - никто не знает. Быть может, он все еще путешествует, верный привычке; быть может, спешит к нам с дальнего края света весть о его кончине, написанная иностранцем лакеем на скверном английском, а то на неведомом языке; или человек этот, оставшись один, не подает нам знака; а быть может, обоих давно уже нет и они значатся в списке пассажиров затонувшего судна под вымышленными именами.
Разумеется, когда в парк Урнеклостера въезжала карета, я вечно ждал, что сейчас увижу его, и у меня странно падало сердце. Матильда Брае уверяла: вот так он и является, ни с того ни с сего, когда его вовсе не ждут. Он, однако, не явился, но неделями он занимал мое воображение, я чувствовал, что нам бы надо сойтись, и мечтал узнать, каков он на самом деле.
Когда же меня вскоре потом, вследствие известных причин, целиком полонила Кристина Брае, я странным образом вовсе не интересовался обстоятельствами ее жизни. Зато меня занимала мысль о том, висит ли ее портрет в галерее. И желание это выяснить так меня мучило, что я потерял сон и в одну прекрасную ночь (Боже ты мой!) вдруг вскочил с постели и пошел наверх с дрожавшей от страха свечою.
Сам я о страхе не думал. Я вообще ни о чем не думал. Я шел. Тяжелые двери почти играючи мне поддавались, комнаты, которыми я проходил, затаились в тиши. Наконец на меня дохнуло глубиной, и я понял, что я в галерее. По правую руку я чувствовал окна, полные ночью, значит, по левую были портреты. Я повыше поднял свечу. Да, там были портреты.
Читать дальше